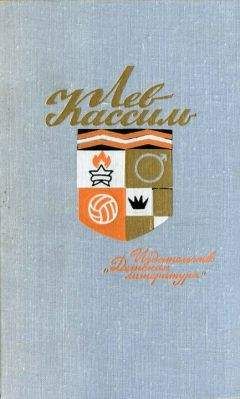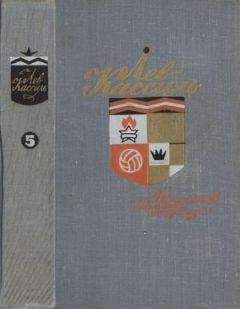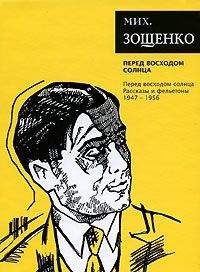Незнакомец подошел к скамье, где сидел Коля, и тяжело опустился рядом.
— Ну вот… — проговорил он, трудно переводя дыхание. — О чем мы говорили?
— Я вас хотел спросить: вы в армии были? — повторил Коля.
Но неизвестный, казалось, не слышал его. Он глядел в тот конец аллеи, куда ушла красивая дама.
— А? — вдруг, словно встрепенувшись, спросил он и повернулся к Коле, виновато и как будто беспомощно улыбнувшись. — Вот бы ты кого зарисовать попробовал. Красивая? Верно?
Коля молчал.
— Что ж ты молчишь? Разве не красивая? Ведь красавица! Разве тебе не хотелось бы нарисовать такую?
Коля покачал головой. Собеседник даже откинулся немного назад и с удивлением посмотрел на Колю:
— Это почему же?
— Вы не рассердитесь? — спросил Коля.
— Что ты! Разговор мужской, серьезный.
— У нее черты лица правильные, — сказал, запинаясь, Коля, — а глаза недобрые, без света, и лицо все время словно в тени от этого. Тут трудно за что-нибудь ухватиться…
— Недобрые глаза? — задумчиво повторил неизвестный и положил большую руку на Колино плечо. — Ты так считаешь? Интересно. Что же… может быть, ты и прав. Я ее два года не видел. А она… Ну ладно, прости… Так что ты меня хотел спросить?.. Был ли я в армии? Да, дорогой, я на всю жизнь, как Маяковский говорил, «революцией мобилизованный и призванный». Воевал. И сейчас воюю.
— А сейчас же нет войны, — сказал Коля.
— Есть, дорогой мой, есть. Идет большая война за правду, за крепкий мир. Вот я там и воюю.
— А это где?
— Ну, это далеко. Как говорится, отсюда не видать. — Он встал и протянул Коле крупную, широкую руку. — Будь здоров, Коля. Спасибо, милый. Ты не знаешь, как вовремя мне попался… Не понимаешь? Тебе и не надо понимать. Гм!.. Недобрые глаза, говоришь? Интересно… Ну, наверно, еще встретимся. Завтра будешь рисовать тут?.. Я загляну.
Он приподнял шляпу, поклонился и пошел по аллее, прямой, браво и широко неся пологие плечи в просторном пальто.
На другой день он не пришел. И на следующий день его не было на бульваре, хотя Коле очень хотелось еще поговорить с этим заинтересовавшим его человеком. Больше Коля его никогда не встречал. Куда он делся? Может быть, уехал воевать за мир в те далекие края, которые отсюда не видать…
Были и другие встречи…
Однажды, набрасывая в альбоме уголок бульвара с памятником Гоголю вдали, Коля, увлеченный работой, не заметил, как к нему осторожно подсел незнакомый гражданин. Он возник на скамье возле Коли так неслышно, что только наплывший с ним душок табака и затхлости заставил нашего художника встрепенуться и взглянуть на непрошеного соглядатая. То был костлявый, кощееобразный и неопрятный старик. Пахло от него какой-то гнилью, давно непроветренным жильем, нафталином и еще чем-то, словно бы мышами… Сняв большую клетчатую, будто из пледа сшитую, кепку старинного покроя, с наушниками, застегивающимися на макушке большой пуговицей, и похожую на диковинный плоский треух, он вытирал несвежим платком пот с большого бледного лба, лысеющего сверху, а с боков обрамленного длинными прядями волос, прилипших к височным впадинам. Влажный лоб был непомерно широк сверху и опирался, как на две арки, на высоко выгнутые, тесно сведенные к переносице брови, от которых шла вниз меж глубоко запавших узких щек извилистая линия носа, такого длинного, что он почти пересекал разрез плоского, тонкогубого рта. Из-под тяжело приспущенных желтых век он брезгливо смотрел в Колин альбом.
— Любопытно, однако! — заговорил он, наклоняясь к Коле и обдавая его душным своим запахом. — Экзерцируете? Похвально. Что же, позволю себе полюбопытствовать, из чистого любительства, по велению сердца или по родительскому принуждению?
— Я учусь в Средней Художественной имени Сурикова школе, — отвечал Коля и убрал карандаш.
Этот кощей мешал ему. Работать при нем было ужа нельзя. Коля начал складывать альбом.
— Повремените, молодой человек… Куда вы? Или я послужил помехой в ваших занятиях? Не обессудьте. Присел… передохнуть. Здоровьишко немощное… Не имел в намерениях воспрепятствовать. Устраняюсь, устраняюсь…
Он сделал вид, что встает, надел кепку-треух. Коле стало неловко:
— Да нет, вы мне не помешали нисколько. Пожалуйста, сидите. Я все равно кончил уже.
— Ну-с, коли так, с вашего любезного разрешения посижу. Отдышусь несколько… Так в среднем художественном заведении, говорите, занимаетесь? Юное дарование, как ныне зовется. Что же, похвально. Молодежь в настоящее время все больше стремится к практической пользе, по техническим отраслям идет более. Прикладные знания сегодня в цене. А настоящее искусство не в чести. Не до него. Что же вас, молодой человек, подвигнуло на это сомнительное в смысле благ житейских поприще? А? Разрешите взглянуть. — Он взял из рук Коли альбом, перелистал. — Склонность имеете несомненную, вижу. Но мотивы, мотивы!.. Ничего идеального. Одна проза жизни. Реализм, так сказать. Я, молодой человек, когда-то в петербургской гимназии учительствовал, именно данный предмет — рисование — преподавал. Так что судить имею основания. М-да, данные у вас незаурядные, но пристрастились вы уже к тому, от чего бы молодых отвращать следовало. Вижу, что наставлены вы, как и прочие сегодняшние, на путь неверный, пагубный. Впрочем, что ж тут толковать… Это сейчас принято: натаскивать юность на темы низкого порядка. Разве с этого надобно начинать? На одном гипсе вас еще следует держать, молодой человек, пока рука не окрепнет в растушевке, не приобретет благородства штриха. Классики, антики, белизна непорочная, вечные формы! А вас с отроческих лет принуждают уличную грязь запечатлевать, дурной жанр, как прежде изъяснялись — мове жанр: дворников, собак, машины эти… Принижение искусства на потребу тех, кого ныне именуют широкими массами, во имя служения низкому вкусу их и политическому назиданию, иначе выражаясь — агитации. Так я рассуждаю?
— А по-моему, вы совсем неверно рассуждаете. Гипсы у нас тоже рисуют все время, — прервал его Коля и решительно отобрал свой альбомчик. — Но только мы совсем по-другому думаем все.
— Как же вы думаете? Любопытно, любопытно. И кто это, позвольте узнать, «все»?
Коля сердито смотрел в сторону. Он теперь жалел, что не ушел. Ему был отвратителен этот незваный собеседник. Что-то подчеркнуто постное, мертвящее, враждебное всему, что было так дорого Коле, сквозило в каждом слове его, в брезгливом извиве узких, кривящихся губ, в многозначительно взведенных бровях. И от каждого его витиеватого словца, произнесенного с каким-то выкрутасом, так и тянуло затхлостью, червоточиной…
Но уходить сейчас уже было нельзя: это выглядело бы отступлением.
— Как мы думаем? — Коля нахмурился и огляделся по сторонам, словно ожидая подмоги. «Эх, был бы Витька тут, взяли бы его в работу! Мы бы вдвоем его живо, прямой наводкой!» — подумал Коля и в упор посмотрел в лицо кощею. — Как мы думаем? — повторил он уже твердо, как бы решив принять бой открыто. — Мы думаем, что вот, например, Репин с вами был бы не согласен. Потому что вы только за эстетизм. — Коля внезапно покраснел, так как всегда очень смущался, когда приходилось в разговоре со взрослыми произносить такие умные, да еще не совсем русские слова. — А Репин говорит, что эстет равнодушен и к России, и к правде, которая у народа, и даже к будущему своей родины. Ему бы только, Репин говорит, купаться глазами во всякой этой вот античности. Вот как Репин думает. И мы все так думаем.
— Почитываете, значит? Цитируете? Но кто же эти ваши «все»? Средние художественные? «Мы все»… Кто же это «мы»?
— Мы — это те, против кого вы! — неожиданно для самого себя нашелся Коля.
Он встал, разрумянившийся, с большими возмущенными глазами, излучавшими сейчас горячий синий свет, в распахнувшемся пальтишке, из-под которого выбился алый галстук, вероятно совсем некстати, потому что кощей сейчас же придрался:
— Ага! Если я вас правильно понял, молодой человек, «мы» — это оказалось всего-навсего лишь пионеры. Не правда ли?
— Да, и мы, пионеры, в том числе!
— А вы не полагаете, что для истинного художника, которому превыше всего свобода помыслов и творчества, вот этот ваш галстучек красный на шее подобен аркану? — уже с нескрываемым вызовом спросил кощей и потянулся костлявым пальцем к Колиной груди.
Тот резко отпрянул: он и допустить не мог, чтобы этот тип коснулся пионерского галстука.
— Так рассуждают одни только самые отсталые… И те, кто вообще против всей нашей советской жизни.
— Да вы, юноша, уже, кажется, меня чуть ли не к фашистам сопричислили?
— Нет, — сказал Коля, — вы просто уходящий тип.
— Как? Что такое? — поразился тот.
— Очень просто! У меня уже много накопилось таких зарисовок. — Коля испытывал мстительную радость, видя, как насторожился костлявый. — Я их так и назвал: «Типы уходящей Москвы». Попрошайки всякие там, перепродавцы книг на толкучке, старуха ворожея одна возле Арбата живет; я ее долго все подлавливал, пока не зарисовал… Вот и вас я тут нарисую. Я вас запомню, потому что разглядел всего…