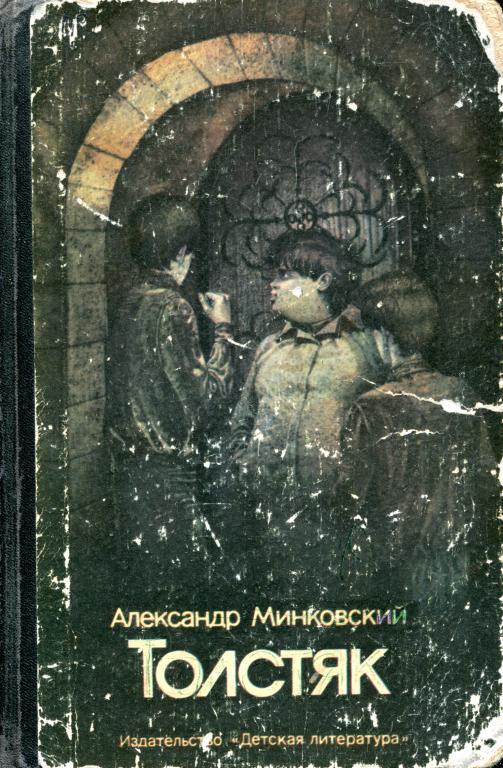не сказала «этот блондин», или «этот курносый», или «этот из седьмого «А»? Почему именно калека? У него нет ноги — это правда. Но неужто это в нем главное? Только это и отличает его от других, определяет его как человека?
— Не психуй…
— Я не психую. Вот когда Грозд назвал тебя носатой, ты тут же схватилась за чернильницу. А почему? Потому что он тебя обидел. Но Грозд и делал это нарочно, чтобы обидеть тебя. А не кажется ли тебе, что еще обидней, когда человека обижают просто так, без злых намерений, не думая? Когда чужую беду считают чем-то вполне естественным. Тебе приятно было бы, если б вдруг ты услышала: «А эта носатая девочка неплохо воспитана»?
Лицо Флюковской утратило оживленное выражение. Плотно сжав губы, она пристально вглядывалась в какую-то точку на полу коридора. Не перегнул ли я со своими нападками на нее? Сам не пойму, какая муха меня сегодня укусила!
— Извини, пожалуйста, — пробормотал я растерянно.
— Это ты извини, — тихо проговорила Флюковская. — И за сегодняшнее. И за то — помнишь? Там, на картошке…
— Не имею понятия, о чем ты говоришь, — чуть улыбаясь, возразил я. — Ничего я не помню.
Ирка резко повернулась и побежала в класс. Я постоял еще несколько минут в коридоре и двинулся в библиотеку. В очереди стояло несколько ребят, пришедших обменять книги. Библиотекарь неторопливо заполнял читательские карточки, а потом расхаживал между рядами полок, почти не глядя отбирая нужные тома. Я взял с полки иллюстрированный журнал и отошел с ним в глубь зала. Здесь, убедившись, что на меня никто не смотрит, я быстро подошел к железной дверце и заглянул в замочную скважину.
Перышко исчезло.
Мама надела голубое в красных маках платье, высоко зачесала волосы, чуть подкрасила губы и сразу стала очень молодой и красивой, как на свадебной фотографии.
— А папа не пойдет с нами? — спросил я.
Мама тихо приложила палец к губам.
— Он спит, — сказала она. — Воскресенье — единственный день, когда ему удается немного отоспаться. Вчера опять вернулся поздно. Заметил, как он выглядит последнее время?
— Заметил, — отозвался я. — Щеки совсем провалились.
Честно говоря, завидовал я этим впалым щекам отца, его глубоко сидящим глазам и с удовольствием поменялся бы с ним местами. На мне сегодня был зеленый вельветовый костюм — первый в жизни настоящий костюм, специально для меня сшитый настоящим портным всего полгода назад. Выглядел он великолепно, но пиджак уже с трудом застегивался, а брюки немилосердно впивались в тело. Я опасался, как бы они не лопнули при неосторожном движении.
— Пойдем, — сказала мама. — Представление начнется через двадцать минут.
Я еще ни разу не был в цирке. Издалека разглядел огромную, как дом, палатку, а потом толпу, сбившуюся у входа.
Усатый мужчина в гренадерском, расшитом золотом и галунами мундире надорвал наши билеты и пропустил внутрь.
Мы заняли места в ложе у самого края посыпанной опилками арены. С купола свисали какие-то канаты и веревочные лестницы, на специальном возвышении играл оркестр. В соседней ложе я увидел Арского, сидевшего рядом с мужчиной, как две капли воды похожим на него. Даже очки у них были в одинаковой оправе. Арский сделал вид, будто не замечает меня. В глубине зала у самого столба, подпирающего купол палатки, я разглядел Яцека с Рысеком Чарнушевичем из его класса. Последнее время я часто видел их вместе. Значит, у Яцека появился новый друг. Я думал, что меня это ничуть не трогает — пусть себе дружит, с кем хочет, — а все же какой-то неприятный осадок в душе оставался. Я поскорее отвернулся, чтобы он не заметил моего взгляда. Иное дело, если бы со мной здесь были Май или Витек Коваль; тогда я с удовольствием встретился бы с ним глазами и улыбнулся ему холодно и безразлично.
А собственно, почему? Я задал себе этот вопрос, потому что лгать самому себе — наиглупейшее занятие в мире. Почему? Раз Яцек вычеркнут мной из списка друзей, раз он теперь вроде бы и не существует для меня, то почему я так близко к сердцу принимаю его новую дружбу, почему я так боюсь, что он решит, будто я страдаю от одиночества? Трудно ответить на этот вопрос. С одной стороны, иметь дело с Яцеком мне не хочется — это факт, а с другой — то, что нас раньше объединяло, не прошло бесследно. Но я не хочу также, чтобы он испытывал угрызения совести за то, что обидел меня. Нет, ни за что на свете! К тому же я не в обиде: у меня есть прекрасный друг, с которым мне так хорошо. Если уж ему должно быть совестно, то только из-за того, что он меня предал.
— Внимание почтеннейшей публики! Мы начинаем наше представление! Оркестр, туш! Первым номером нашей программы выступает всемирно известная, знаменитая амазонка пампасов, несравненная Эмануэла Альварес!..
Распорядитель сошел с арены, а через секунду раздвинулся занавес, и в круг света прожекторов въехала девушка на прекрасном вороном коне. Скакун под ней встал на дыбы, закружился, сделал несколько прыжков. Девушка сидела невозмутимо, как статуя из золота и драгоценных камней, ее наряд сиял тысячами разноцветных искр. Конь снова встал на дыбы и двинулся по кругу на задних ногах. Раздался взрыв аплодисментов и восхищенные крики. Амазонка пампасов встала ногами на седло, и конь помчался по кругу, подгоняемый быстрым ритмом марша. Барабанная дробь — и конь остановился как вкопанный, а наездница дугой взмыла вверх, сделала двойное сальто и вновь оказалась в седле. И снова — бурные аплодисменты и восторженные крики.
— Нравится?
Не отводя глаз от арены, я только кивнул в ответ. Даже ковбоям Дикого Запада, которых я не раз видел в кино, не удавалось что-либо подобное. Эмануэла Альварес на полном скаку спрыгивала с седла, мчалась, повиснув вниз головой в одном стремени, проскальзывала под лошадиной шеей, делала стойку. И что самое поразительное, улыбка не сходила с ее лица.
— Мирово! — не смог я скрыть своего восхищения. — Ты только посмотри, мама, как она улыбается. Она ведь ни капельки не устает.
— Ошибаешься, милый, — сказала мама. — Это так называемая профессиональная улыбка. Уверяю тебя, она страшно устает. Работать в цирке очень тяжело, и при