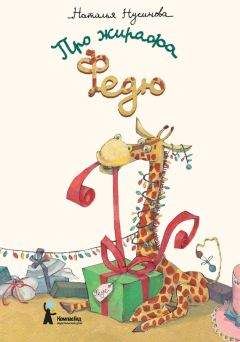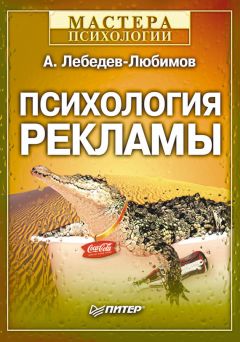— Когда мне руку на финской оторвало, водкой меня сперва отхаживали. Смекаешь?
На дворе стояла непроглядная темь. Даже соседних домов не видно. Казалось, что их здесь никогда и не было. В такую тревожную ночь человеку трудно даже представить, что где-то светит жаркое солнце, что есть большие города, мирно спящие деревни. Думалось, что на всей земле сейчас липкая темь, дождь, ветер.
Каким-то чудом отыскали в этой кромешной мокрой темноте дорогу в лес и молча шли по чавкающей и хлюпающей грязи, шли и толкали тележку, на которой возили прежде только хворост да сено. И не было той дороге конца, а они, даже в душе, не роптали.
Только Семен Васильевич вслух усомнился:
— Найдешь ли, Катерина, его?
— Найду, найду, Сеня, — зашептала Екатерина Степановна, — теперь уж недалеко. От Лыскиного оврага с километр, не больше. Ельничек помнишь?
— Спрашивай!
— В том ельничке и лежит.
Он действительно лежал там, где его оставила Екатерина Степановна. И никаких признаков жизни уже не подавал.
— Помер!
— Замолчи ты! — прикрикнул на жену Семен Васильевич. — Бери под руки... Так... Поднимай... Кладем.
И снова они шли по раскисшей дороге. И снова им казалось, что вовсе не идут они, а просто месят ногами липкую грязь. И ночь была бесконечно долгой.
...До самого утра отхаживали Храмовы лейтенанта. Раны у него были не очень опасными, но, видно, он потерял много крови, долго голодал и сильно ослаб. Храмовы вымыли его, как могли, перевязали раны, надели на него чистое белье Семена Васильевича и уложили за печкой.
К утру у лейтенанта начался сильный жар. Раненый стал бредить, часто вскрикивал:
— Вперед!.. За Родину!... Бей фашистскую нечисть!
— Надо же, горит как, — пугалась Екатерина Степановна. — И кричит не по своей воле, родимый! Надо же! Не помирает ли он, Семен? А?
— Жив будет. Горит, значит, есть чему гореть. Крик родится —тоже хорошо... Только бы немцы не заглянули... Придут паразиты, а он их встретит словами: «Бей фашистскую нечисть!» Тут-то неувязочка и получится.
— Может, его на Калашников хутор, к дяде Егору? Тот спрячет, сам Гитлер не сыщет.
— Думал я о дяде Егоре, думал, да тревожить парня сейчас нельзя. У него сейчас, видать, самый... этот... Ну, как его называют-то? Во! Вспомнил. У него сейчас самый крызис.
— Чего, самый?
— Самый перелом: то ли жить ему, то ли помереть... Если сейчас к дяде Егору повезем — смерти поможем, тут лежать оставим — жизни поддержку дадим.
— Чего же тогда рассуждать-то?
— А и нечего рассуждать. Надо думать, как от немцев его уберечь. Они живо все вынюхают. И это самое: гешосс. Фирштеешь?
— Ладно язык-то поганить! Говори по-хорошему, по-нашему.
— И сразу расстреляют всех. Понимаешь?
— Конечно, расстреляют.
— А я все же придумал, как перехитрить паразитов.
— Как?
— Фрицы ужас как боятся тифа. Вот я и заболею тифом.
— Господь с тобою!
— Да не по-настоящему. Притворюсь.
— А доктор ихний придет? Что тогда?
— Буду лежать на печке: Жару там хватает. Для верности травки жарогонной выпью. А сыпь-то на животе репейником натру. Да и не придут они: тифа побоятся.
Утром Екатерина Степановна пошла к старосте Петру Селиванову. Петр Никитович Селиванов выслушал Храмову и решил навестить больного соседа. Екатерина Степановна обомлела.
Храмов услышал шаги на крыльце — и на печку. Лежит и живот репьем натирает.
Староста вошел в хату, снял шапку, перекрестился на пустой угол и сказал:
— Мир дому вашему. — Потом поглядел на хозяйку и строго спросил: — Почему иконы не висят? Немцы любят дома, где висят иконы.
— Нет у нас икон.
— Зайди ко мне, выдам на время. Где Семен-то?
— Там, — Храмова указала на печку.
И в это время раненый лейтенант произнес громко:
— Вперед! Смерть фашистским гадам! Вперед!
Екатерина Степановна задохнулась от испуга.
— Эк, как бредит, — староста покачал головою, —Видать, здорово прихватило мужика. Только пусть с печки слезает. При тифе и так человеку жарко, а ты его еще на печку. — Селиванов усмехнулся как-то странно и ушел.
Тяжелая тишина повисла в доме. Храмовы молча ждали, когда придут немцы.
И они пришли очень скоро. Но почему-то в дом к Храмовым солдаты не пошли, а, остановившись на почтительном расстоянии, вбили колы с какими-то дощечками. Вбили и поспешно ушли... Храмовы не верили своим глазам. Наконец, они опомнились. Семен Васильевич приказал:
— Иди-ка, Катерина, погляди, что за штуки они оставили.
Екатерина Степановна, накинув Платок на плечи, вышла на улицу и заторопилась к столбику с дощечкой. Там по-немецки и по-русски было написано: «Тиф».
Храмова облегченно вздохнула и перекрестилась.
Вскоре такие знаки были поставлены еще возле двух домов... А через неделю только три дома остались «нетронутыми сыпняком», и немцы решили на время уйти из деревни. Они покинули Ореховку на рассвете. Староста Селиванов провожал их. Подобострастно кланялся, крестился и причитал:
— На кого же вы нас, отцы-родители, покидаете? Что же с нами теперь будет?
— Не плаччь, Пьетр, — успокоил старосту майор Шмюккер, садясь в машину. — Кончался эпидемий, и мы возвратился в Орьеховка. Ауфвидерзейн, Пьетр.
— Видерзейн, видерзейн, господин майор. Видерзейн!
— Бьереги Орьеховка! — прокричал Селиванову майор на прощание из закрытой кабины.
— Это уж не извольте беспокоиться... не извольте беспокоиться.
Накануне шел мокрый снег, а к уходу немцев приморозило.
Машины с солдатами катили легко. Вот и последний грузовик скрылся в лесу.
Цыганское красивое лицо старосты посуровело. Селиванов распрямил плечи и, плюнув вслед машине, гневно сказал:
— Будьте прокляты!
Круто повернувшись, Петр Никитович направился размашистыми шагами к дому под зеленой крышей, взошел на крыльцо и громко постучал. На стук выглянула старуха. Она поклонилась Селиванову.
— Тиф у нас, батюшка, — захныкала старуха.
— Слыхал, — усмехнулся Селиванов. — Да хватит тебе, Прасковья, кланяться-то. Зови старика.
— Так оно того, Никитич, тифный.
— «Тифный!» Все равно зови. Да скажи, чтобы пузо репейником не натирал. Не буду сыпь проверять.
— Чево? — Прасковья открыла рот.
— Иди, Прасковья, иди. Зови Павла.
Вскоре на крыльцо вышел дед Павел, по прозвищу Казак.
Он ничего не смог понять из сбивчивого рассказа жены. Единственное, что уяснил он, это то, что надо срочно выходить на крыльцо к старосте Селиванову. И дед Казак вышел с таким видом, будто староста только что помешал ему отойти в иной мир. И сил-то у него, у тифозного, только и хватило, чтобы выйти ка крыльцо к господину старосте. Дед держался за живот, ноги у него тряслись от «слабости», щеки были втянуты, глаза выпучены.
Селиванов глянул, на деда и захохотал. Смеялся до слез и все приговаривал:
— Ну, Казак! Ну, артист!.. Ох! Сейчас помрет от тифа.
Но дед Казак не сдавался, продолжал быть «тифозным». Сиплым голосом умирающего он спросил:
— Зачем звал-то, господин староста?
Петр Никитович от этих слов сразу смолк и потемнел лицом.
— Хватит, Павел, болеть. Не трясись и глаза не выкатывай — вредно. Ты такой же тифозный, как я староста... Немцы ушли. «Тиф» сделал свое дело... — Селиванов пристально поглядел на своего давнишнего друга. И после этого взгляда дед Казак перестал трястись и выпучивать глаза.
— Ну, што? — холодно спросил он.
— Садись, покурим, — попросил Селиванов.
— Дык, я и постою.
— Не хочешь с предателем рядом сидеть?
— Лежал долго и постоять хочется, — ушел от прямого ответа Казак.
— Ну, постой, постой, — Селиванов закурил. — Никому не должен был говорить я того, что тебе сейчас скажу... Старостой быть мне приказал подпольный райком партии... Тяжело мне, Павел, тяжело. И пуще всего от людского презрения. Ведь и ты меня немецким прихвостнем считал? А?
— Врать не стану — считал.
Друзья посидели, не разговаривая. Пришло запоздалое утро поздней осени, но пришло оно с солнцем. И так давно не было солнца, что они глядели на него как на дорогой подарок природы.
— Посмотри-ка, — сказал дед Казак. — Немцы ушли, и солнышко засветило...
— Засветило. — Селиванов улыбнулся солнцу.
— Слушай, — спохватился Казак, — а кто же у нас первый тиф-то надумал?
— Да Храмов. Зашел как-то к ним, гляжу, а Семен «болеет на печке» тифом.
— Это какой же дурак при тифе на печку забираться ему присоветовал? — возмутился дед Казак.
— И я ему про то сказал. А тиф Семену понадобился для отвода глаз. Раненого он с Катериной выхаживает... Вот тогда я и доложил майору Шмюккеру о тифе в деревне. Он побелел даже и велел столбики с запретными объявлениями поставить.
— Конечно, Петр, ловко мы обошли немцев. А если бы аспиды прознали правду? А?