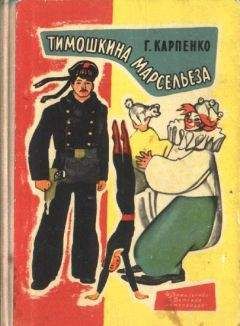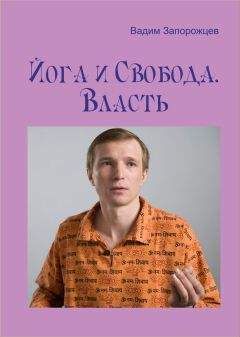— Вот что, артист: ты походи в них дня два, а я твои постараюсь залатать. — И Василий Васильевич унёс Тимошкины полусапожки в дом.
Через два дня, как и обещал, он возвратил их Тимошке.
— Пляши, — сказал он. — Работай.
— Надо благодарить, — напомнил Тимошке дед.
— Спасибо, — спохватился Тимошка и, переобувшись, побежал похвастаться перед Фроськой.
— У меня теперь тоже башмаки! С подмётками!
— Я, Семён Абрамович, его ремеслу бы учил, — сказал Василий Васильевич, поглядев вслед Тимошке.
— Ремеслу? — Шарманщик усмехнулся. — Я не знаю, какой из него получился бы токарь или слесарь, но музыкант… Вы слыхали, как он поёт? Он не берёт ни одной фальшивой ноты.
Василий Васильевич спорить не стал.
— Пусть будет по-вашему, — сказал он. — Только моё убеждение, что нужно и ремесло знать. Рабочий человек — он всему основа. У меня смолоду тоже гармонь была. А сейчас не до неё. Какие теперь песни?
— Как это какие песни? — рассердился Семён Абрамович. — Вот вы… вы даже на митингах поёте…
— Так это же «Интернационал»! — возразил Василий Васильевич.
Шарманщик посмотрел на Василия Васильевича строго.
— Я сейчас нищий, вы это знаете, но я — музыкант. А «Интернационал» — песня.
На следующий день Тимошка шагал по лужам без опаски: на нём были башмаки с подмётками.
Ветер всю ночь стучал дверью, а под утро затих.
Когда Тимоша проснулся, в сарае было совсем светло. Дед ещё спал, укрывшись с головой. Тимоша поглядел в щёлочку — на дворе лежал чистый, белый снег, и было слышно, как на крыльце дома кто-то колол лучину.
«Хозяева будут ставить самовар», — подумал Тимоша.
Тихо, чтобы не потревожить деда, он слез с постели и вышел из сарая. На крыльце колола лучину Фроська.
— Проснулись? — спросила она.
— Гляди, зима!
Тимошка бросил в Фроську снежком. Она засмеялась, сбежала по ступенькам, держа в руках тяжёлый косарь.
— Я вот тебе! — Из-под тёплого платка на Тимошку глядели голубые Фроськины глаза.
У Тимошки глаза чёрные-чёрные. И волосы тоже чёрные, жёсткие, тугими колечками. А у Фроськи коса. Сегодня воскресенье: в косу вплетена зелёная ленточка.
— Дочка! — позвал из дома голос Пелагеи Егоровны. — Дочка!
И Фрося, собрав лучину, убежала в дом.
Оставляя следы на пушистом снегу, Тимошка вернулся в сарай. Дед всё ещё спал, лёжа на спине, а попугай Ахилл качался в кольце, распуская остатки когда-то роскошного хвоста. Увидев Тимошку, он приподнял хохолок, но в разговор с ним не вступил: Ахилл предпочитал разговаривать с дедом. В дверь заглядывало морозное солнце. Тёмные стены, позумент на шарманке были тронуты его позолотой. И на постели тоже прыгал солнечный зайчик.
— Хозяева самовар ставят, — сказал Тимошка.
Дед не приподнял головы.
— Самовар кипит! — закричала со двора Фрося.
«Может, чай не пустой?» — подумал Тимошка и сказал громче:
— Хозяева зовут. Я пойду.
Дед не отвечал.
Утерев лицо горсткой снега, потом рубахой, Тимошка побежал в дом.
Хозяева уже сидели за столом. На подносе фырчал самовар, а на тарелке лежали лепёшки. У Тимофея захватило дух.
— С пирогами нынче, — сказала Пелагея Егоровна. — Садись.
— А что ж один? — спросил Василий Васильевич.
— Дед ещё спит, — ответил Тимоша. — Я будил он не просыпается.
Тимоша разломил лепёшку. Внутри она была сырая, похожая на горячий, крутой кисель.
— Ешь, чего глядишь! — И Фрося похвастала: — Из чего лепёшка-то, не угадаешь, а я знаю…
— Цыц! — пригрозил Фроське отец. — В кого ты у нас такая мельница?
Фроська, надув губы, замолчала.
— Из картошки мороженой да из солоду — чего тут гадать? — сказала Пелагея Егоровна. — Ешь!
Лепёшка! Таких бы лепёшек сто! Тимошка ел и наслаждался.
— Налей-ка, мать, погорячее. — Василий Васильевич протянул Пелагее Егоровне стакан и спросил у Тимоши: — Может, захворал дед?
— Нет, — ответил Тимошка. — Он даже не кашляет сегодня. Всю ночь не кашлял.
— Не кашляет? — переспросил Василий Васильевич и поднялся из-за стола.
* * *
Широко распахнута дверь сарая. Во дворе чужой народ, В сарай заглядывают все, кто хочет.
— Помер шарманщик, царство ему небесное! — говорит соседка и крестится.
Василий Васильевич привёл плотника, и тот начал сколачивать деду гроб.
Плотник шаркал рубанком. На белый, только что выпавший снег падали крутые стружки. Тимошка молча глядел на его работу.
— Поди шапку надень, — сказал плотник.
Но Тимошка продолжал стоять с непокрытой головой.
— Захвораешь, — сердито повторял плотник, забивая гвозди в отсыревшие доски.
«С добрым утром! С добрым утром!» — кричал в сарае голодный Ахилл.
Тимошка всё стоял и смотрел, как плотник прилаживает доску к доске, и не мог ещё понять, что уже никогда не пойдёт с дедом по дворам петь и плясать.
Собрав свой инструмент в мешок, плотник спросил:
— Ну, кто там со мною расплатится?
Из дому вышла Пелагея Егоровна. Проводив плотника, она кликнула соседку, и они пошли с нею обмывать деда.
На другой день после дедовых похорон Тимошка вернулся поздно. Все уже спали.
— Где ты был? — спросила его Пелагея Егоровна.
— Работал. Ахилла-то надо кормить, — ответил Тимошка.
Ночевал Тимофей в доме. Пелагея Егоровна постелила ему на полу. Ахилла она посадила за печь и накрыла лукошком.
— Пускай сидит не шебаршится.
Тимошка долго ворочался — не мог уснуть.
— Чего ты? — спросила, нагнувшись над ним, Пелагея Егоровна и сунула ему холодную картошку.
Тимошка не открывал глаз.
— Никак, плачешь?
— На кой мне плакать? — Тимошка натянул на голову одеяло.
— А ты поплачь, поплачь. — И Пелагея Егоровна погладила Тимошку по голове.
Глотая слёзы, Тимошка повернулся к стене. Он слышал, как Пелагея Егоровна, погасив коптилку, вздыхая, ушла за перегородку и там шептала Василию Васильевичу:
— Как теперь, Вася, с мальчишкой-то быть?
— Где четверо, там и пятый, — отвечал Василий Васильевич. — Только гляди, чтобы не шлялся, а там что-нибудь придумаем.
— Плачет. Не спит, — продолжала шептать Пелагея Егоровна.
— Поплачет — уснёт, — отвечал сквозь сон Василий Васильевич.
Тимошка не мог уснуть. Он вспоминал, как дед, укладываясь спать, разговаривал с Ахиллом:
«Ещё один день прошёл, так пройдёт и вся жизнь».
«Прошёл, прошёл», — повторял попугай, качаясь в кольце.
Ахилла дед уважал, а шарманку, которую таскал на спине, не любил.
«Разве это музыка? — говорил он. — Разве это инструмент? Это «каприз судьбы». Только и всего».
Тимошка знал, что у деда была «музыка», которую он берёг. Он только иногда вынимал её из длинной коробки, сдувал с неё невидимую пыль и, снова уложив на бархатное ложе, завёртывал коробку в мягкий платок.
«Сыграл бы на дудке», — попросил Тимошка.
«Ша! — сказал дед и, будто боясь кого-то разбудить, добавил совсем тихо: — Флейта — не дудка. Это большая разница».
Порывшись в кармане, Семён Абрамович послал Тимошку в лавочку купить спичек. Спички ему были не нужны — ему хотелось остаться одному.
* * *
— Одно тряпьё, — сказала Пелагея Егоровна, разбирая в сарае дедову постель. — Куда его?
— Обожди! — И Тимошка, вспомнив, достал из-под жёсткой подушки дедову флейту.
— Гляди не трогай, — пригрозил он Фроське и отнёс флейту в дом, поставил потёртый футляр на подоконник.
Хозяева в сарае прибрались. Накрыли шарманку рогожей. Пусть себе стоит. Куда её?
Первые дни Тимошка в сарай не заходил. Но как-то, когда дома никого не было — Фроська с Пелагеей Егоровной ушли в баню, — он взял с подоконника футляр и пошёл в своё прежнее с дедом жильё. В сарай сквозь щели светило зимнее солнце. И Ахиллово кольцо, которое забыли снять со стропил, качалось под перекладиной на бечёвке, совсем как золотое.
Тимошка постоял на пороге. Потом сел на чурбачок и поднёс флейту к губам. Осторожно нажимал на клапан, дул, но флейта молчала.
— Не поёт? — спросил Гриша.
Тимошка не слыхал, как Гриша появился в сарае. Он взял из Тимошкиных рук флейту, осмотрел её и покачал головой.
— Сломан инструмент, клапанчика не хватает.
— Чего не хватает? — переспросил Тимошка.
— Клапанчика. А ты чего на ней хотел сыграть?
У Тимошки было сокровенное желание. Однажды дед стал учить его песне с чужими, непонятными словами. Тимошка сразу понял мотив, но со словами не ладил.
«Пой, пой просто так, — разрешил дед. — Эту песню поют ангелы», — и долго слушал его с закрытыми глазами…
— Ты что, ангелов не видал? — удивилась Фроська, когда Тимошка спросил, какие они, ангелы. Она показала ему открытку, на которой по синему небу летела румяная девица, и за спиной у неё были крылья, похожие на гусиные.