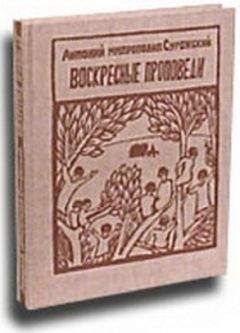Нынче, идя к Наташе, он особенно сильно укорял себя: из-за пустой ревности они не виделись две недели. Подумаешь — положила руку на рукав Димкиной шинели!.. Миша нарочно мысленно называл малознакомого курсанта Димкой: это ставило их в те дружеские простые отношения, которые исключали подлость и конкуренцию.
Смешно же требовать от Наташи, чтобы она ни с кем не виделась. Феодализм какой-то, честное слово! Он чуть было не рассмеялся оттого, что нашёл удачный научный термин, определяющий его глупое поведение в кино. Где-то в глубине души у него пошевелилась тревога, но теперь она уже не разъедала его, он не давал ей распрямиться.
Первое, что Миша увидел, войдя в прихожую Наташиной квартиры, была чёрная курсантская шинель и морская фуражка на вешалке.
Словно тёмное, облако нависло над прихожей. Он почувствовал, будто становится ниже ростом, что-то съёжилось у него внутри. Не появись Наташа на пороге своей комнаты, он, пожалуй, удрал бы тотчас.
— Здравствуй, пропащая душа! — весело сказала Наташа.
Она была в каком-то новом красном платье, на высоких каблуках, — хотелось зажмуриться, как от яркого света, глядя на неё.
В углу комнаты, в старом разбитом кресле сидел курсант Дима. У него была странная манера, здороваясь, изо всех сил пожимать руку, как силомер в парке культуры и отдыха. Миша выдержал это крепкое рукопожатие. Наташа стояла рядом.
— А я уж спрашивал, куда ты девался, — сказал Дима.
— У него характер такой: он любит исчезать…
И оттого, что Наташа произнесла эту фразу знакомым небрежным тоном, его охватило холодное, упрямое спокойствие. Он сел на диван и уверенно заложил ногу за ногу. Никакая сила не сдвинула бы его сейчас с места. Он вдруг почувствовал, что должен сидеть здесь насмерть — это его право и обязанность.
Ожесточение, охватившее Мишу, сперва мешало ему участвовать в разговоре. Он слушал шутливую болтовню Димы, поглядывая на его простодушное подвижное лицо. Ему хотелось бы увидеть моряка Наташиными глазами. Он знал таких парней и по институту, и по школе и иногда немножко завидовал им, — их располагающей к себе лёгкости. Сейчас зависти не было.
Он вспомнил, как моряк в первый день их знакомства сказал, что любит бывать у Наташи. «У неё дом хороший. Только вот увольнительную редко дают»…
И, глядя на Диму, он думал, как же мало тому нужно от Наташи. Вот сидит он со своей увольнительной в кармане, смеётся, ему весело, знаком он с Наташей какой-нибудь месяц, не страдал, не мучился, а она смотрит на него блестящими глазами. Взять бы её за руки и сказать шёпотом: «Ведь я же люблю тебя с седьмого класса!..» Ему казалось, что, если он отыщет такие слова, которые объяснили бы ей всю силу его любви, она пошла бы за ним, не раздумывая.
Он начал внимательно вслушиваться в то, что говорил моряк; тот доплёл какую-то смешную историю, начало которой Миша пропустил, и потом сказал:
— А ты чего такой сердитый?
— Я? — удивился Миша. — На кого мне сердиться?
— Может, на меня? — пошутил Дима.
— Нет, — ответил Миша. — Просто задумался.
— Я давным-давно читала какую-то легенду, — сказала Наташа, — про человека, у которого были волшебные очки. Наденешь их — и сразу видно, что думают люди… Вот бы иметь такие стёклышки!
— Зачем? — спросил Миша. — Думать разучились бы… Самое интересное — представлять себе, какой характер у человека, чего он хочет…
— Очки всё-таки вернее, — сказал Дима. — Вранья меньше было бы.
— Плохо, если его надо выводить стёклами. Чтобы человек говорил правду, нужно ему верить, любить его…
— Ну вот, например, я тебе верю, — тряхнула головой Наташа. — Откуда же мне знать, о чём ты думаешь?
— Со мной просто. Если иметь в виду не мелкие мысли, а главную.
— И всё-таки я не знаю, о чём вы оба сейчас думаете.
— Со мной просто, — повторил Миша. — Я думаю о тебе.
Она посмотрела на курсанта; тот смутился и, чтобы скрыть смущение, рассмеялся.
— Чепуха какая-то! Даже рассказывать не о чем… Ну их к богу, эти очки!..
Он встал и прошёлся по комнате. Миша видел, что Наташа следит за движениями моряка, но это почему-то не причиняло ему боли. Он был рад, что некоторое время длилось молчание: оно словно подчёркивало значительность сказанного им. День был необыкновенно длинный: в него вошло всё, чем он жил.
Когда, уходя, они вдвоём прощались с Наташей, она вдруг сказала:
— Какие вы всё-таки разные!
— Разные — хорошие или разные — плохие? — спросил Миша.
Оглядев их обоих — курсанта, молодцевато затянутого в шинель и бывшего мальчика Мишу, — она ответила:
— Разные — разные.
Из окна её комнаты ещё долго было видно, как две знакомые фигуры шли через пустую площадь; под фонарями они становились ясными, потом расплывались и возникали уже дальше такими же чёткими, но меньше ростом.
И Наташа горестно подумала, как просто всё было в школе: казались вечными звонки на урок, классные собрания, милые подруги, всезнающие учителя; казалось, что всё это навсегда.
А Миша уже совсем не такой, как был, и обо всём ей надо думать наново.
1Женя приехала в Молдавию в сорок восьмом году. Мать умерла в войну, когда Жене было пять лет. Она прожила в детском доме до тех пор, пока отец, отвоевав, не вернулся домой, в Ленинградскую область; только через полгода ему удалось разыскать дочь.
Они жили под Лугой; отец заведовал районным отделением связи, или попросту почтой. Ему было тяжело жить в том доме, где когда-то вела хозяйство молодая жена, и он просил начальство перевести его в другое место, лучше всего куда-нибудь на юг: дочь прихварывала в ленинградском климате.
Его перевели в молдавское село Р.
Село было не маленькое, дворов на полтораста; крестьяне только второй год как объединились в два колхоза: «Красный садовод» и «Ворошилов». Попадались здесь еще и единоличники; их всегда можно было узнать по заезженным клячам, впряжённым в рассыпающиеся телеги, и по упрямому, насупившемуся лицу.
В центре села на базарной площади, окружённый замшелой каменной стеной, стоял монастырь. Его колокольню было видать ещё из Тирасполя, километров за пятнадцать. На воротах монастыря висела мраморная доска с надписью, рассказывающей, что он выстроен в 1909 году по высочайшей милости царя Николая II. От этой надписи сейчас стыдливо отворачивались даже пыльные монахи в пропотелых рясах. Были года три назад в этом монастыре и молодые послушники-сироты, но настоятель, скорбя, жаловался на текучесть: накануне пострига все отроки удрали в Кишинёв, в ремесленные училища.
На этой же площади, в самом центре, против монастырских ворот висел на столбе репродуктор; он жил, как соловей. Даже столб, на котором он висел, был не столбом, а деревом: в селе Р. только год назад поставили телеграфные столбы; их вырубили в лесочке на берегу Днестра и врыли в землю; но то ли климат здесь был особенный, то ли земля благодатная — столбы стали прорастать, появились в двух — трёх местах тоненькие веточки, на них затрепетали робкие листья.
По воскресеньям над базаром в безоблачной молдавской выси происходил поединок между монастырём и репродуктором. Бой завязывался с самого утра; базар по многу раз переходил из рук в руки, и наконец монастырь сдавался, воздев свою беспомощную колокольню вверх.
На первый взгляд казалось, что все преимущества на стороне монастыря. Ему было много лет, у него был опыт старого хитреца и обманщика, он был красив, у него в этом селе были большие связи.
Начинали бой грохочущие колокола — орудия главного калибра. Перебивая и налезая друг на друга, они угрожающе и назойливо повторяли одно и то же.
И вдруг раздавался весёлый человеческий голос:
— С добрым утром, товарищи!
С этого приветливого восклицания разгоралось неравное, жестокое сражение.
Село Р. не районный центр. Газеты приходят сюда во второй половине дня из Бендер и Тирасполя. Под столбом, на котором живёт соловей-репродуктор, скапливаются люди. Гудят толстые колокола. Вступают в строй подголоски. Высокими, пронзительными голосами сплетниц они набрасываются на диктора. Люди переминаются с ноги на ногу, виновато-досадливо косясь на колокольню: виновато, ибо они не откликаются на её зов, досадливо — звон мешает им слушать, что делается в стране и на земном шаре…
Вот в это-то село и переехала двенадцатилетняя Женя из Лужского района Ленинградской области.
Она легко сходилась с людьми и быстро обжилась на новом месте. Её новые друзья не выезжали дальше Тирасполя или Бендер, а Женя много раз бывала в Ленинграде и иногда злилась на себя за то, что не может достаточно ярко рассказать о жизни большого города. Она была самой старой пионеркой в своей новой школе. По дороге в Молдавию она проезжала Москву и стояла минут пятнадцать на Комсомольской площади, против станции метро; мимо проходили люди, проносились машины, одна за другой, в несколько рядов, — их было так много, что у Жени закружилась голова.