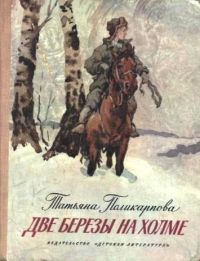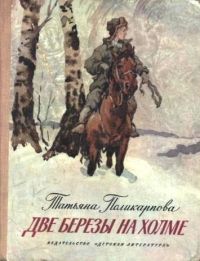А-а, это Лена рассказывает тете Ене, как я плакала. Ну и пусть. Пусть. Все равно тетя Еня меня не любит.
- Видишь, как оно, на чужой-то стороне. Ей теперь у нас все постылым оборачивается. Что ни взвидит - все не то, все не как у мамы. Так ведь, Энгельс, а?
- А, не знаю! Плакса, да и все!
Тетя Еня посмеялась немного. Добрым таким смехом, легкими звуками и неторопливыми, как ее походка.
- Ну да! Ты ведь у нас мужчина, лыцарь. Слезы не обронишь. А она девочка. Нежная. Мамина-папина.
- Да нет, теть Ень! (Это опять Ленин голос.) Она у них дома все делает. Ее не балуют. Я знаю.
- Так ведь и я не про баловство! Горя она еще не хлебнула. Вот, слышала я, Антиповой Ольги дочка нынче в школу пошла. Знаешь, может, Лена? Из Камышлов они.
- Не! Не знаю. А что?
Я же в своем секретном углу так и замерла: про Тоню знает тетя Еня!
- Сколько ей сейчас? Война началась - она, видать, как раз четвертый кончила. А и пошла поздней своих одногодков зимы на две. А уж и война третий год. Стало быть, ей нынче семнадцатый идет. Ну, каково ей за партой вот с эдакими? Да и это, поди, для нее не горе - спасибо, учиться-то снова пошла!
Голос помедлил. Тетя Еня, видно, ждала, чтобы Лена спросила, отчего да почему дочка Ольги Антиповой не училась три года. И я ждала.
Но Лена, наверное, понимала, что уж начала свой рассказ тетя Еня и сама все расскажет. И правда, тетя Еня снова заговорила:
- Так вот, Еленочка. На старших в доме детей, ежели беда какая, все и приходится, коль старого человека нет на подмогу. А у Ольги никого. Сама да мужик. Да детки гужом шли. Антонина - старшая. Тоне в школу бы идти, а с малыми кому быть? Брату два годика, сестра и вовсе в зыбке, а матери надо в поле. За трудоднями.
- А ясли? - спросила Лена.
- Ясли… Это у вас в совхозе ясли, приезжих полно. А Камышлы что? Колхоз, все здешние, от корня, у всех, почитай, бабки; там, может, и была одна изба антиповская вовсе без стариков. Для одних, что ли, ясли будут держать? Вот и сидела Антонина в няньках, пока малая на ножки не стала. Там уж можно и к соседям отводить, пока в школу сбегает. Ну и наладились. Старший братик подрастал на смену Тоне. Правда, за те годы еще двое народилось у Ольги. Однако справлялись. А тут война. Отец на фронт ушел. И Тоне пришлось работать. Как уж они сейчас Тоню отпустили, и не придумаю. Ольга совсем плохая стала. Видела ее на днях в сельсовете: щеки аж втянуло, почернела, как головешка; спина, говорит, замучила.
- А Тоня здоровая, - сказала Лена.
- Молодая. Да в работе смала. Молодым работа не во вред, только на пользу. Но а как со школой - это, конечно… Ведь Тоня давно в избе за хозяйку. Матери только б работу тянуть. Она на ферме. А вся управа - печь поутру, корова, постирушки - это все на Тоне… Так-то вот, - закончила тетя Еня назидательно и, как мне показалось, с упреком.
Я так поняла: что, мол, вам, живете на всем готовеньком, а люди вот как… А может, это не тетя Еня так хотела сказать, а самой мне было стыдно за то, что у меня дома и бабушка, и даже папа вскоре вернулся с фронта, получив рану, после которой уже нельзя воевать. За то, что мне не приходится, как Тоне, тащить весь дом на себе, и я вовремя пошла в школу, и сейчас мне лет столько, сколько и должно быть пятикласснице, и никогда мне не будут кричать: «Тетенька, почем молоко?»
Я так остро почувствовала себя Тоней в эту минуту - почувствовала свое (ее) громоздкое в тесной парте, полное, взрослое тело, эту всю дурацкую суетню мальчишек и девчонок вокруг себя (нее), брошенных где-то дома беспомощных братишек и сестренок, которые, может, упали с лавки или с крыльца или есть хотят, свою (ее) больную маму, у которой сил ровно столько, чтоб делать свою работу на ферме, - и спина у нее болит, а ведь нужно все носить своими руками: и воду, и корм, и чистить станки, и доить… Так все это стало мне внятно ощутимо - телом, кожей, памятью, руками, праздно сложенными на парте, далекими от них, от дома, - что я окаменела, будто сердце во мне остановилось…
Вот что с Тоней, поняла я, увидев перед собой ее глаза, пристально всматривающиеся во что-то, что не здесь, не рядом и вокруг нее. И поняла вдруг, какая она одинокая среди нас, такая же, как и я, только по-другому, только еще хуже. И стыдно стало мне за свое малодушие…
В темноте за печкой, в чужих запахах и голосах опять пришла на помощь мне Тоня Антипова. Надолго ли?
Я подумала, что, наверное, Энгельке надо ложиться спать, а я тут валяюсь, и выбралась из закутка. Смущалась я: ну, думала, сейчас станут все на меня смотреть: «Даша проснулась!… А вот и Даша к нам идет!» Еще снова расплачусь. Но тетя Еня, сидящая за прялкой, коротко глянула:
- Давай-ка, Даша, выпей чайку, пока самовар не остыл.
Лена тут же стала наливать мне чашку, и чашка задребезжала о блюдечко под напором струи.
Энгельс по-прежнему читал, подвинув книжку к лампе, так, чтоб самый яркий круг света падал на страницы. Лампочка была не сильная, семилинейная. У нас дома - десятилинейная. Тени, густые и огромные, лежали по комнате - на стенах, на полу. Листья фикуса, развесистого, словно дерево, - он стоял в большой кадушке прямо под божницей в углу, - таинственно слабо поблескивали кое-где, а тень его, узорная, лапчатая, покрывала весь пол, падала и на бабушкину кровать, и на стену за нею, взбиралась на потолок. Эта тень словно держала в горсти всю комнату, предметы в ней, людей, сближала их, соединяла. Сейчас комната показалась мне уже не такой чужой и враждебной. А веретено в руке тети Ени издавало тихий трепещущий звук - ф-рр-р-р! - похожий на звук, с которым стрекоза проносится близко от вашего уха.
Я села к столу. Чай пили с молоком. Сладкого не было, как говорится, ни пылинки. Хорошо бы хоть хлеба досыта. Вот этого хлеба из совхозной пекарни - тяжелого, мокроватого, колючего от мякинных остей, как небритая папина щека. Но было заранее рассчитано, что буханочки хлеба хватит мне на шесть дней, если я буду съедать по кусочку к завтраку, обеду и ужину. И я вспомнила: ведь сегодня в обед я хлеба не отрезала! «Вот молодец, - сказала я себе, - можно съесть сразу два куска. Надо будет еще так делать: обедать без хлеба, тогда на ужин останется два куска». Это было приятное открытие. Хоть что-то хорошее за весь этот первый день. И я вздохнула.
- Хватит тебе вздыхать, как старушке, - ласково сказала тетя Еня. - Видишь, как у нас ладно. Народу-то сколько. А то сидим мы вдвоем с бабушкой, как кукушки, да кукуем. А теперь - вон оно, целое общество (тетя Еня сказала «опчество»).
И сразу, отметив про себя «опчество», я вспомнила «толы», услышала недобрый голос: «У-у большетолая! Припухли толы-те».
- Тетя Еня, а что такое толы? - Я спросила сразу, выпалила, не задумываясь, что, может, это что неприличное. Как вспомнила, так и спросила. И, уже отговорив, начала краснеть, почувствовала, как наливается горячим лицо.
- Ха! Толы - это по-здешнему глаза! - радостно заорал Энгелька. - Зенки, гляделки!
Тетя Еня даже со словами собраться не успела, как он влез, первый раз за вечер рот раскрыл. Обрадовался, что знает про здешнее.
И тетя Еня подтвердила:
- Ну да. Глаза так у нас называют - толы. Но это все же по-грубому. Грубо так-то. Нехорошо.
«Ах, нет, тетя Еня! Это хорошо, хорошо! Это в тысячу раз лучше, чем я думала!»
Почему лучше, и даже в тысячу раз, я не могла бы сказать. Просто снова увидела я себя, деревянно переставляющую ноги к спасительной калитке под злым пристальным взглядом Лешки, услышала мстительное: «У-у, большетолая!» Но теперь вместе с этим видением, перечеркивая его, взвилось во мне ликование: «Неправда это все!» Словно свет вспыхнул, словно радостная волна накатила и тут же отхлынула. Мне будто дали понять, что одержана победа. И только мне дали это понять.
В чем победа и почему, я не доискивалась. Но было, было: я прошла сегодня мимо Лешки и Карпэя в страхе, в ожидании оскорблений, прошла как пленница, не догадываясь, что это он, Лешка, терпит поражение. И он думал, что унижает меня, и не знал, что мимо прошел победитель.
А тихая лампа все так же кротко светила на голубоватую клеенку, на Энгелькину книгу, ее желтоватые страницы, и продолжало свое летнее «фр-р-р!» веретено, и теплая лапчатая тень фикуса держала нас всех вместе, всех разом в этой комнате. Радость моя, как мышка, показалась и скрылась до поры. Но после нее стало мне лучше. И только когда устраивались спать и принесли из сеней мой матрац из тика в широкую синюю полосу, набитый скользящей золотой соломой (вчера с папой набивали), когда я положила его на пол, под фикус, и, застелив простынкой, улеглась сама, опять сжала мне сердце боль. На полу чувствовала я себя как в глубокой яме, как Жилин* в плену у кавказцев, - заброшенной и одинокой. И опять стало терзать меня ощущение вреда, который я приношу своей семье. Вот лежит на полу матрац. Такой чистый, выстиранный и отглаженный мамой, его чехол трется о пол, хоть и подостлала мне тетя Еня чистый половичок: острые соломинки впиваются в волокна ткани, разрывают их, я на нем лежу, ворочаюсь, изнашиваю его, и простыни, и одеяло… Опять слезы подступили к глазам, я старалась лежать неподвижно и долго из-за этого не могла уснуть.