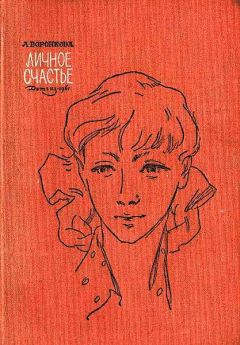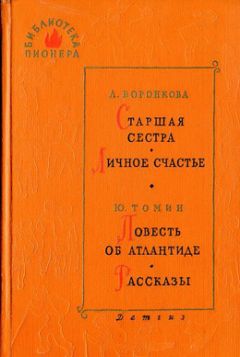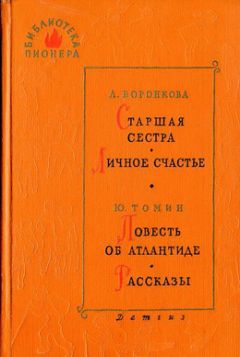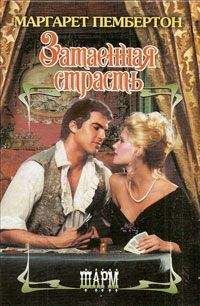Петушок, насупившись, молча направился к двери. Антон вздохнул и понурил голову. Он ничего не мог противопоставить красноречию Фатьмы и Зины, кроме своей горести.
– Ведь ты же не эгоист, Антон, правда? – продолжала Зина, хотя сердце ее сжималось.
Она знала, как трудно отказаться от радости, в которую человек до конца поверил. Она никогда не нарушала своих обещаний. Но сегодня… А может, все-таки поехать на Выставку?
– Артемий тоже придет, – как бы между прочим сказала Фатьма, разглядывая какую-то книжку на Зинином столике. – Тамара его звала…
При этих словах чашки весов вздрогнули и переместились. Чашка, на которой лежали радости Антона, взлетела кверху.
– Ну скажи, Антон, ведь ты же не эгоист? – продолжала Зина. – Ты же можешь потерпеть до завтра, а?
Антон, ни слова не говоря, начал снимать новую курточку, которую Зина только что надела на него. Зина изо всех сил крепила сердце, чтобы не махнуть рукой на весь этот бал.
Атмосферу трагедии разбил легкий смех Фатьмы:
– Ну почему столько расстройства, чего вы оба нахохлились? Чудак ты какой, Антон! Привык ходить за Зиной, как хвостик все равно. А уже большой!
– Нет, что ты, – стараясь задобрить Антона, возразила Зина, – он у нас знаешь какой самостоятельный. За хлебом один ходит. И еще куда-то по своим делам ходит, даже я не знаю! Ну не тужи, Антон, завтра мы обязательно поедем с тобой на Выставку. Ладно?
– Ладно, – коротко, со вздохом согласился Антон.
– А сейчас ты пойдешь в пионерский двор. Ладно? Возьми конфетку, ступай.
Проводив Антона, Зина вернулась в комнату с расстроенным лицом.
– Ну что ты, Зина, – ласково упрекнула ее Фатьма. – Ну какая беда случилась? Нельзя же все только для ребят, для себя тоже что-нибудь нужно… Ты в каком платье пойдешь?
Это был самый верный ход, чтобы переключить направление мыслей.
Зина достала из шкафа белое в голубой горошек платье и голубую ленту в косу.
– Как думаешь – ничего? У меня ведь нет другого.
– Что ты! – восхитилась Фатьма. – Очень хорошее! Оно тебе так идет, прямо Белоснежка!
– Уж скажешь!
– А я в этом… – Фатьма расправила подол своего полосатенького платья. – Я подпушку выпустила. Не заметно?
– Ничуть не заметно!
Радость предстоящего праздника захватила Зину. Где-то в душе было неспокойно – обидела она Антона! Но тысячи оправданий заглушали это неприятное чувство. Ведь надо же и ей когда-нибудь попраздновать, ведь это ее пятнадцатая весна! Слишком тесно набиты ее дни всякими заботами и делами, а повеселиться и порадоваться так хочется!
Зине казалось, что ноги ее совсем не касаются тротуара. Они шли с Фатьмой, взявшись за руки, будто маленькие, и смеялись из-за каждого пустяка. У Фатьмы расстегнулась резинка от чулка – расхохотались до слез. Зина, заглядевшись, попала в канавку с водой – чуть не умерли со смеху. Весеннее солнце щедро светило им, воробьи кричали им: «Здравствуйте!», окна домов приветливо глядели на них, старые деревья кивали им свежими ветками, полными трепетных солнечных огней.
«Это наши девочки, – словно говорила старая улица, – я помню их еще первоклашками. Они вместе бегали в школу. Я помню, как дружно топали по асфальту их маленькие ноги. Правда, случилось однажды, что эти девочки перестали верить друг другу, перестали ходить вместе. Но это была ошибка, ошибка! А теперь они уже выросли, на груди у них комсомольские значки. Наши девочки никогда не снимают этих значков, наши девочки гордятся ими! Вот как весело идут подружки, как горят их щеки, как сверкают глаза – ну что ж! Пускай повеселятся, они такие молоденькие!»
Тамара Белокурова ждала гостей.
Ее мать Антонина Андроновна, нарядная, как павлин, ходила из комнаты в комнату, оглядывая свои владения – все ли стоит на местах, стерта ли пыль с полированных столов и шкафов, красиво ли разложены пестрые подушки на диванах.
Новая домработница Анна Борисовна, пожилая, толстая и ворчливая, была не так расторопна, как Ирина. А Ирина ушла. Поступила, видите ли, в техникум. Переехала в общежитие. Ну что ж, пусть узнает, как жить на стипендию. Здесь ела что хотела, первый кусок ее – а как же у них, у домработниц? Как ни гляди – не углядишь! А там живо поясок свободен станет. Вспомнит еще свою хозяйку Антонину Андроновну!
С чувством тревоги она заглянула к Тамаре. Ну так и есть: постель еще не убрана, всюду валяются чулки – на стульях, на диване, даже на письменном столе. Да разве Ирина допустила бы это?
– Анна Борисовна! – с рокотом отдаленного грома в голосе позвала Антонина Андроновна. – Пожалуйте-ка сюда!
Анна Борисовна степенно вошла, вытирая фартуком мокрые, покрасневшие от горячей воды руки. Лицо ее, круглое, поблекшее, хранило выражение собственного достоинства, а светлые, выцветшие глаза смотрели спокойно и сурово.
– Анна Борисовна, это что же за безобразие такое, а? – Антонина Андроновна дала волю своему гневу и мощному голосу. – Скоро придут гости, а здесь… Это что же?!
– Непорядок, – согласилась Анна Борисовна. – Только, думаю, девушка сама должна за собой постель убирать. Мои дочери, бывало, с шести лет за собой убирали.
– Ваши дочери! – Антонина Андроновна пожала своими широкими толстыми плечами. – Но если ваши дочери такое отличное воспитание получили, то как же они позволяют вам по чужим кухням ходить? Хорошие дочери до этого не допустили бы!
По лицу Анны Борисовны прошла мрачная тень, две горькие морщины появились у рта.
– Да, плохие у меня дочери, – слегка понурив голову, негромко сказала Анна Борисовна: – Одна в партизанском отряде погибла… Другая вместе со своей санчастью под Сталинградом могилу нашла…
Антонина Андроновна смутилась.
– А что я по чужим кухням хожу, – продолжала Анна Борисовна, принимаясь застилать Тамарину постель, – так надо же работать где-нибудь. Не сказать, что нуждаюсь, я за своих дочек пенсию получаю. Да ведь не без дела же сидеть. Не урод ведь я, не калека еще. Совестно по земле-то без дела ходить. Работа – какая бы ни была – все работа. А человек без работы – это как сорняк в поле. Кому он нужен, только зря хлеб ест.
Анна Борисовна ловко заправила постель и заспешила в кухню – у нее там что-то жарилось.
– Скажите, – проворчала Антонина Андроновна, – «сорняк в поле»! Это что же, не про меня ли? А разве я ничего не делаю? За хозяйством смотрю, дочь воспитываю. Целая квартира на моих руках. Да еще работница. И все одна управляюсь, без мужа…
Воспоминание в муже совсем погасило праздничное настроение Антонины Андроновны. Она машинально взяла со стола тоненький скомканный Тамарин чулок и опустилась на стул. Вот уже третий год, как инженер Белокуров по призыву партии уехал в МТС. И с тех пор – ни встречи, ни звука его голоса, ничего… Только денежные переводы и на переводах коротенькие сообщения о том, что он здоров, что все благополучно, и просьба к Тамаре, чтобы писала почаще. И ни разу он не позвал к себе Антонину Андроновну, и ни разу ни полслова о том, что скоро вернется. Ведь два года отработано, срок закончился. Но этот странный человек словно и забыл, что у него есть родной дом, что у него есть семья… В чем дело?
Впрочем, пусть поступает как знает. Антонина Андроновна ему не скажет ни слова, у нее тоже есть гордость. Рано или поздно приедет. Вот тогда-то она и отыграется! «Ты обо мне совсем не заботишься!» – «А ты обо мне заботился, когда оставил одну?» – «Куда же вы собрались с Тамарой, мне же одиноко одному!» – «А мне не было одиноко одной, когда ты жил там, в своем совхозе?» Уж она найдет, как расплатиться с ним и за тайную обиду его пренебрежительного молчания, и за то, что не звал ее к себе, не тосковал о ней, и за то, что не находил времени побывать дома – то у него посевная, то у него уборка, то у него хлебосдача… Все для него важно, все нужно, все интересно, кроме жены. А жена для него словно собака – сторожит квартиру, и ладно.
Слезы обиды и оскорбленной женской гордости закипели в груди Антонины Андроновны, подступили к горлу. Что делать, что ей делать, в конце концов? И сколько же это можно еще терпеть?
Постукивая каблучками лакированных туфель, в комнату вошла Тамара. Антонина Андроновна тотчас овладела собой.
– Убери комнату. Что это все разбросано у тебя?
– Но я уже оделась! – Тамара развела руками. – Почему ты мне раньше не сказала?
Тамара была похожа не то на бабочку, не то на розовый цветок. Яркие каштановые волосы, коротко подстриженные и завитые, кудрявой шапочкой лежали на голове. Шелковые розовые оборки топорщились над голыми руками, топорщились и на широком подоле.
– Ведь я же вся сомнусь!
– А ты не знала, что за собой убирать нужно? Вон у Анны Борисовны дочери с шести лет убирали.
Тамара улыбнулась:
– Но ведь у Анны Борисовны работницы не было. И вообще, мама, – продолжала Тамара, убирая чулки в ящик письменного стола, – мне кажется, что нам с работницами не везет. Ирина такая дерзкая была, она меня так мучила!