«Что предпринять?» — думал Бабушкин.
Он пытался запеть, хотя за это полагался карцер. Глуховатым, словно надтреснутым голосом он начал, стараясь перекрыть унылый вой сумасшедшего:
Среди лесов дремучих
Разбойнички идут
И на плечах могучих
Товарища несут.
Его не поддержали. Товарищи были так измучены долгим движением по этапу, что, кажется, уже не имели сил сопротивляться тоске.
Все же он упрямо допел до конца. Потом, также «соло», исполнил песню о Стеньке Разине.
Все молчали. Только старик, сидя на табурете, по-прежнему заунывно и страшно выл.
Принесли обед.
Заключенные зашевелились, вытаскивая миски и ложки.
Сахарнов, получив свою порцию, уселся спиной к старику и стал есть. Но тут сумасшедший украдкой выхватил картофелину из чужой миски с похлебкой и ловко сунул ее ему в рот.
Молчаливый, вялый Сахарнов вдруг вскочил, швырнул миску на пол и, отплевываясь, заорал:
— Убить гада!
Камеру внезапно охватил словно приступ бешенства. Измученные люди на мгновение лишились выдержки.
— Из-за него хоть с голоду подыхай!
— Кляп в рот! — кричали заключенные.
— Избить! — истерически вопил Сахарнов.
Бабушкин видел: еще минута — и старику в самом деле не поздоровится.
— Стойте! — крикнул он.
Бабушкин еще не знал, что делать. Понимал только одно: нельзя допустить, чтобы старика избили.
Оттягивая время, он подошел к сумасшедшему, долго, пристально глядел на него.
— Веревка у кого-нибудь есть? — спросил Бабушкин.
Веревки не нашлось, но студент протянул ему полотенце. Иван Васильевич стал стягивать им руки старика за спиной.
— А что проку? — спросил студент. — Выть-то все равно будет. Кляп в рот.
— Нет. Это уж слишком, — возразил Бабушкин. — Это ведь наш товарищ. Кто знает, сколько пришлось ему перетерпеть? И почему он потерял рассудок…
Бабушкин затянул полотенце.
— Извините, папаша, — сказал он. — Ничего не поделаешь..
Но старик не обижался. Он, казалось, и не чувствовал, что его связывают. Все так же шамкал толстыми губами и благодушно улыбался.
…До вечера сумасшедший лежал связанный на нарах. В камере было по-прежнему мрачно. И слишком тихо. Только выл старик, да в углу студент вслух вспоминал, какой вкусный кофе со сливками пил он за два дня до ареста.
Бабушкин, сидя у стола, думал: как бороться с этой эпидемией тоски? Сейчас главное — взбудоражить, поднять людей. Но как? И тут мелькнула мысль: «Старик!»
Иван Васильевич забарабанил кулаком в дверь. Заключенные насторожились: в чем дело?
Коридорный надзиратель открыл «форточку», через которую в камеру подавали пищу.
— Чего буянишь?
— Вызовите начальника корпуса, — сказал Бабушкин. — Надо поговорить..
— Много вас тут, указчиков, — проворчал надзиратель и захлопнул «форточку».
Бабушкин снова стал стучать. К нему присоединился студент. Наконец «коридорный» отодвинул створку «волчка».
— Перестань колошматить, — сказал он. — Начальнику уже доложено. Придет.
Но прошли вечер и ночь, и еще один день — Сиктранзит не являлся.
Однако настроение в камере понемногу начало меняться. Бабушкин объявил товарищам свой план: потребуем, чтобы сумасшедшего забрали в госпиталь.
— Верно! — поддержал студент. — И нам лучше. И старику. И вообще не имеют права держать умалишенного в тюрьме. Обязаны лечить!..
Заключенные оживились, деловито обсуждали, что предпринять, если Сиктранзит откажется выполнить их требование.
Лишь на третий день утром Сиктранзит вошел в камеру.
Бабушкин видел: начальник корпуса с удивлением глядел на сумасшедшего, вставшего, как и все заключенные, при его появлении. Старик был цел и невредим. А начальник полагал, что политические, конечно, изобьют его, как это было во всех камерах.
— Ну-с, на что вы опять жалуетесь, господин Бабушкин? — спросил начальник. — Как видите, ваша просьба выполнена. Теперь в камере только политические.
— Уберите старика! Отправьте его в больницу для умалишенных!
Начальник сделал удивленное лицо.
— А разве старик сумасшедший?
— Вы отлично знаете это, — ответил Бабушкин.
— Я рассмотрю вашу просьбу. — Сиктранзит повернулся, собираясь выйти из камеры.
— Учтите, — сказал Бабушкин, — если вы не уберете сумасшедшего, и притом немедленно, мы примем меры.
Сиктранзит остановился, неторопливо снял пенсне и стал протирать стекла кусочком замши.
— Вы, кажется, изволите угрожать мне? — насмешливо произнес он. — Оригинально! А позвольте узнать: какие же «меры»?..
— Пошлем жалобу вице-губернатору.
— Пошлите, пошлите! — съехидничал Сиктранзит.
— Смейтесь! — спокойно сказал Бабушкин. — Мы знаем не хуже вас: вице-губернатор не станет слишком беспокоиться из-за нас. Но учтите, мы предадим гласности всю эту историю. Сообщим в газеты, как на Руси сумасшедших держат в тюрьмах. Найдутся охотники обнародовать такую скандальную историю. Это вам по вкусу?
Сиктранзит промолчал.
— Есть и еще одно сильное оружие у заключенных, — сказал Бабушкин. — Голодовка.
— Ну что ж, — произнес Сиктранзит. — Посмотрим, что у вас получится. «Финис коронат опус».
И он вышел из камеры.
— Что он сказал? — спросил Бабушкин у студента.
— «Конец венчает дело», — перевел тот.
— Правильно, — сказал Бабушкин. — «Конец — делу венец». И конец будет в нашу пользу.
На следующий день Бабушкин вручил начальнику корпуса жалобу для передачи вице-губернатору.
— Хорошо, — сказал Сиктранзит и, не читая, сунул бумагу за борт мундира.
«Определенно не передаст, скотина», — подумал Бабушкин, глядя на его спокойное насмешливое лицо.
— Обратите внимание, — сказал он Сиктранзиту. — Там в конце мы пишем: если вице-губернатор не даст ответа в течение суток, наша камера объявит голодовку.
Сиктранзит пожал плечами:
— Каждый делает, что ему нравится.
Это было в одиннадцать утра. На следующий день к одиннадцати утра никаких известий от вице-губернатора не поступило.
— Итак, голодовка? — спросил Бабушкин у соседей по камере.
— Значит, голодовка! — за всех ответил студент.
— Учтите, товарищи, — предупредил Бабушкин. — Голодовка — штука серьезная. Тут обратно хода нет. Взялся голодать — на том и стой. До конца…
— Ясно! — сказал студент, хотя ему и не хотелось уточнять, о каком «конце» говорит Бабушкин.
В камере было пять человек, не считая сумасшедшего.
— Пусть каждый обдумает. Хорошенько. Хочет ли он участвовать в голодовке, — сказал Бабушкин. — Выдержит ли? Не отступит ли? Больным и пожилым советую отказаться. Если кто не чувствует в себе достаточных сил, тоже пусть лучше откажется. Нет, нет, ответ не сразу. Через час.
Прошел час. В голодовке согласились участвовать все. Но Бабушкин настоял, чтобы пожилой, издерганный Сахарнов не голодал.
— Придется не есть шесть — семь, а может, и восемь суток, — сказал Бабушкин Сахарнову. — Вы уже не молоды. Можете не выдержать. Да и за сумасшедшим нужен уход. А нам — голодающим — невтерпеж будет подносить ему суп да кашу.
На следующее утро началась голодовка.
Казалось бы, в тюрьме одна камера наглухо отделена от другой толстыми каменными стенами и железными запорами. И все-таки в тот же день вся «пересылка» знала: «политики волынят».
Об этом сообщили сами политические соседям стуком в стену. Об этом рассказали товарищам дежурные по кухне. Они разносили утром по камерам кипяток и хлеб. Староста камеры. № 23 взял только две кружки чая и два куска хлеба. Остальные четыре порции дежурные вернули на кухню.
Сиктранзит тоже сразу узнал о голодовке. Но сделал вид, что это его не касается.
«Пусть поголодают, — подумал он. — Денька через два-три шелковыми станут…»
Так прошел первый день. За ним второй. Мучительное чувство голода становилось все сильнее. Бабушкин за свою короткую жизнь уже трижды сидел в тюрьмах, но в голодовке не участвовал ни разу. Однако из рассказов более опытных товарищей он знал — через день сосущее, изматывающее ощущение голода притупится, станет не таким сильным.
— Советую всем лежать. Поменьше двигаться. Не разговаривать. Побольше спать, — сказал Бабушкин.
На третий день Сиктранзит подошел к камере № 23. Молча постоял у закрытой двери, прислушиваясь. Из камеры доносился только тихий зловещий вой сумасшедшего.
— Куда они девают еду? — спросил Сиктранзит у надзирателя.
— Так что обратно вертают. На кухню, значит…
— Не брать, — приказал Сиктранзит. — Не хотят есть — их дело. Но пища пусть остается у них в камере. Понял?
— Так точно. Чтобы пища, значит, оставалась в камере…
«Теперь они узнают, что такое Танталовы муки»[31], — подумал Сиктранзит, довольный своей выдумкой.

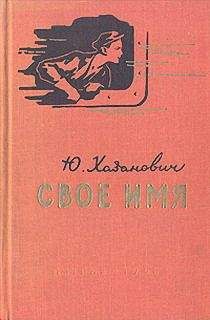

![Сергей Лексутов - Ефрейтор Икс [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/96438/96438.jpg)

