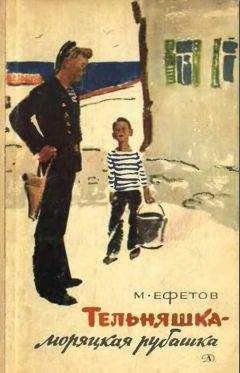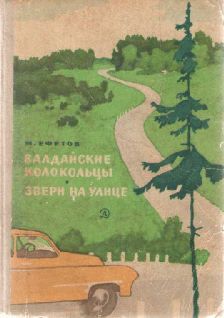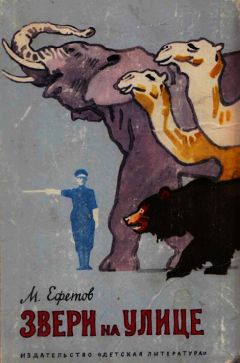Но профессора Бочина в институте не обнадёжили. В лаборатории научно-исследовательского института поглядели на записку, зажатую меж двух стёкол, и сказали: «Вряд ли что получится. Ведь тут даже бумага истлела. Расшифровывать не по чему».
А всё-таки Бочин оставил свои стёклышки и уговорил работников института испытать своё умение на этой записке. И вот он получил, кроме фамилии Убийволка, имя Вениамин.
Вызвав по телефону Володю, Бочин его спросил:
— Ты занимался поисками отца Бориса Сергиенко? Ты ничего не слышал об Убийволке? Теперь известно и его имя — Вениамин.
— Слышал! — воскликнул Володя. — Сегодня я получил письмо… Там как раз об этом танкисте… Да, да, я помню вас. Вы в золотых очках. Мне ещё Костя о вас говорил. А письмо из архива такое вежливое. Хотите, прочту?
— Ты скажи, что в нём.
— Там пишут, что старшина Вениамин Иванович Убийволк служил в танковой части и погиб смертью храбрых при исполнении боевого задания под Новгородом. И ещё там написано, что командир части, где служил Убийволк, майор Елюгин, должен знать подробности. И там написан адрес Елюгина. Он живёт почти в самой Москве — двадцать километров всего. Дать вам адрес?..
Перед тем как уехать в Новгород, Владимир Петрович побывал у майора Елюгина. Он жил в посёлке, в маленьком доме, которого почти не было видно за яблонями и кустами смородины. Десяток деревьев и кусты окружали дом как бы изгородью. Тут же, в саду, был вкопан в землю стол, побуревший от времени и от дождей. За этим столом Бочин просидел больше часа. Рядом с Елюгиным были прислонены к столу костыли. Разговаривая, он поглаживал левой рукой пустой рукав правой руки. Дорого обошлась война майору. Но память он сохранил отличную. Слушая Елюгина, Владимир Петрович думал с досадой: «Как жаль, что нет здесь Бориса Сергиенко! Вот бы ему послушать рассказ об отце».
Не знал Бочин о несчастье, случившемся с Борисом.
Двадцать лет назад под Новгородом, где недавно работали сапёры лейтенанта Каляги, на берегу озера, скрытый темнотой ночи, Феофан Сергиенко полз в расположение врага.
Вот как это случилось.
Уходя из Новгорода, фашисты уничтожали город — улицу за улицей, дом за домом. Они взрывали здания, стоявшие века.
До войны тысячи людей приезжали сюда со всего света смотреть гениальные творения великих художников; учёные восторгались чудом мирового искусства — зданиями в кремле, созданными русскими мастерами. Так восторгаются храмом Василия Блаженного в Москве.
В Новгороде фашисты закладывали в эти исторические здания тол; они обливали бензином и керосином памятники архитектуры, замазывали дёгтем росписи великих мастеров, росписи, которые изучали в университетах всех стран.
Двадцать девять месяцев фашисты хозяйничали в Новгороде. Но самые страшные преступления совершали захватчики в дни, когда им стало ясно: удержаться на советской земле нельзя, надо бежать. И вот перед этим бегством гитлеровцы стали превращать Новгород в зону пустыни. Они сбросили с пьедестала бронзового Пушкина и Гоголя, Петра Великого и Суворова, разобрали на куски памятник «Тысячелетие России».
Но уже на улице разрушенного города ветер доносил тысячеустое «ура». Наступление наших войск началось там, где немцы его совсем не ждали: с юга и севера Новгорода.
Это было 14 января 1944 года. Морозы сменились оттепелью, и неожиданно полил дождь. Дождь в январе.
Болота под Новгородом набухли, дороги расползлись. Наши войска шли по воде и грязи. Шли пешком — автомашины завязли, — но шли, не сбавляя шага. Впереди был Новгород.
В один из таких дождливых дней командир танковой части майор Елюгин приказал разведать дорогу к озеру. Уж очень подозрительную возню начал там противник.
А перед танками была поставлена задача: прорваться вперёд, прикрыть наступление пехоты с фланга и этим сорвать замысел врага — не дать ему спокойно отойти.
Однако, прежде чем решить эту главную задачу, надо было решить ещё две: разминировать дорожку через ничейный участок фронта — это первое. А потом по этой дорожке жизни должны были проползти разведчики и доложить командиру танкистов, что за возню предприняли фашисты.
Вот уже пошли по раскисшей земле сапёры со своими пищалками в наушниках миноискателей.
В землянке, склонившись над картой, сидел майор Елюгин. Разноцветные линии и стрелы — прямые и загнутые — пестрели по всей карте. И, хотя на карте этой было множество всяких знаков, казалась она майору немой: многое в ней было неизвестно.
В тот день майор Елюгин не был похож на того Елюгина, с которым за круглым столом в саду под яблонями сидел профессор Бочин.
В землянке склонился над картой молодой человек с чёрными усиками и такими смугло-бордовыми щеками, будто он только сегодня вернулся с юга, где загорал и купался. Елюгину не было тогда и тридцати лет. Он мог не спать две-три ночи подряд, мог сутки не вспоминать о еде, мог — и так оно и было — сам обмотать себе бинтом руку, задетую пулей, и тут же забыть о ранении, мог спать, сидя у стола и положив голову на руки.
Елюгина любили в полку, как всегда и везде любят людей весёлых и смелых, прямых и бесхитростных — таких, с которыми забывается страх и жизнь кажется легче, даже если она и очень тяжела.
А майор Елюгин так же любил сержанта Сергиенко, которого в части называли «Добре». Да, имя это шло к нему как нельзя лучше. Когда на отдыхе (в армии отдых понятие условное) надо было нарубить дров, выкопать проход в землянке или очистить снег, пока ещё думали, кому бы это поручить, Сергиенко говорил, будто угадывал мысли майора:
«Добре, я зроблю».
Когда он возвращался с передовой и Сергиенко спрашивали: «Ну, как там?» — он говорил: «Добре. Наши «катюши» дают Гитлеру прикурить».
Майор, встречая Сергиенко, часто задавал ему один и тот же немудрящий вопрос:
«Как дела, сержант?»
И ответ был всегда один:
«Добре».
Посылая Сергиенко в разведку, майор спросил:
— Задача понята добре?
— Добре понята. — Сергиенко улыбнулся, и на его чуть скуластом смуглом лице сверкнули ровные белые зубы. — А як же! С четырьмя бойцами пройти дорогой, что проложат сапёры. Буде як раз темно, як подползём к озеру. Ну, и развидать, шо там фашист шебуршит. И з темнотою же возвернуться живым и без царапинок.
— Вот это добре! — Елюгин поднялся и теперь стоял лицом к лицу с сержантом.
Тот лихо подбросил согнутую ладонь к правой брови, щёлкнул каблуками, и снова чуть-чуть блеснули его белые зубы.
Улыбнулся и Елюгин:
— Значит, скоро добре отдохнём…
Они, эти бесстрашные люди, как бы играли в войну, как это и бывает со смельчаками. А в душе знали, что задача трудная, рискованная, опасная. И что там — отдых в Новгороде?! Живыми бы остаться к завтрашнему дню. Но об этом старались не говорить. Улыбались. Шутили. Говорили так, как говорят, когда идут на прогулку…
Сержанту надо было отправляться в разведку. Уже спустился в землянку и стал рядом с ним, чуть согнувшись, высокий танкист в чёрном и мягком, будто ватная стёганка, шлеме.
— Старшина Убийволк будет с вами, — сказал майор, показывая на танкиста. — Вы знакомы?
— А як же! Добре знакомы!
— Тем лучше. — Майор протянул руку к Убийволку. — По рации он свяжется со мной. Я буду в головном танке. Ну, что, Сергиенко, не всё добре? Что, просьба есть?
— Есть.
Он ведь, сержант, ещё десять минут назад не знал, что пойдёт сквозь «ничейную» землю, через линию фронта, что в сумерках поползёт в расположение врагов. Здесь прятались мины; тронь только взрыватель — разорвут; здесь десятки пар глаз следят в бинокли и подзорные трубы за каждым квадратным метром земли; здесь смерть поджидает его, Феофана Сергиенко, на каждом шагу.
Отправляясь в разведку, Сергиенко шутил, хотя знал, что идёт на опасное задание. Елюгин видел, как несколько минут назад, получив задание, Сергиенко писал что-то на тетрадном листке. Может быть, письмо родным, а может быть, рапорт, заявление. Майор ждал, когда Сергиенко скажет об этом.
А сержант в это время испытывал острое чувство волнения и радости. Сбывалась главная и давнишняя мечта, обычная для человека, трудившегося всю свою жизнь. Ведь Феофан Сергиенко застал ещё время, когда хозяином земли был помещик. Феофан знал мир страшной несправедливости и видел, как мир этот переделывали коммунисты. Сергиенко был тогда малограмотным, ломал шапку перед помещиком и боялся даже его кучера. С самых ранних лет возникло и росло у Феофана чувство уважения к людям, боровшимся за правду и счастье для трудового человека, — к коммунистам. И в этой войне он ощутил это особенно сильно. Клубился туман фронтовых дорог, оседала пыль взрывов, Сергиенко с такими же, как он, солдатами с красной звездой вбегал в деревню, в посёлок, в город. А навстречу им выходили люди — обросшие, измождённые, цвета пыльной земли. Они плакали, обнимая своих избавителей — советских солдат, коммунистов.