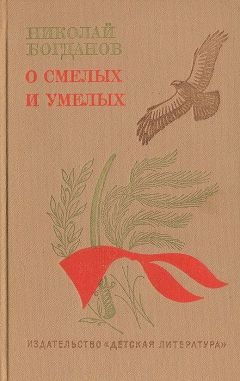— Что там коммунисты, — заминает вопрос поп, — когда между нами, священнослужителями, ладу нет. Где это видано, чтобы дьякон восстал на отца благочинного, звонарь на пономаря, просвирня на церковного старосту?
— Просвирня, ах, вихорная, пороть!
— Дьячок? Всыпать ему горячих!
И распоясавшиеся бандиты, поняв поповский намек, тут же устроили всему селу потеху. Затащили дьякона и просвирню в церковную ограду и на высоких могильных плитах, заголив им одежду, стали пороть.
Попадья упала в обморок. Дочки подняли плач. Зоська выбежал, ухватил главного бандита за руку и укусил, за что и был выдран за уши.
Насмеявшись над дьячком и просвирней, атаманы собрали народ у кооператива, оделили девок конфетами, пряниками и приказали себе величанье петь. Залезли на колокольню и на мелких колоколах выкомаривали плясовую и под эту музыку заставили всех плясать.
Кто уклонялся, давали плетей, били рукоятками наганов, потом поили до одури самогонкой.
Такую закрутили карусель, что и нарочно не придумаешь. Все были пьяны, не пьянел только корявый главарь. Усмехался, посматривая ястребиным глазом, притопывал кривыми ногами, будто ему весело, а сам присматривался к мужикам, выбирал, что одеты побогаче, и говорил:
— Ничего, пусть хлопцы пошутят. Наскучались в лесу. Вырвались, что телята из хлева. Без убытков не бывает прибытков. Вот станцию заберу — все возмещу! Добра там много. Готовьте подводы да и лодки! Как только река взыграет…
Река взыграла ночью. Поднялся ветер, хлынул первый дождь. Лед взгорбился, поломался, и заиграла, зазвенела Мокша льдинами, заглушая трезвоны прибрежных колоколен.
Не спал народ. Бандиты гуляли, опохмелялись, целовались и дрались с кем ни попадя. Смех и слезы. Не спали и мы с Зоськой.
— Вася, — шептал он мне, — Васенька, если я за отца не отомщу, мне жизнь не в жизнь! Зарежу, зарежу перочинным ножом этого главного бандита. Или подожгу дом попа!
Поджигать я ему не посоветовал, а пырнуть бандита ножом было не так-то просто — этого замухрышку окружали такие здоровяки, что одним щелчком нашего брата с ног сшибить могут. И оружием обвешаны, и плетки в руках.
— Обожди, — утешал я его. — Отомстить я не против, но с умом надо.
И лезли мы, незаметные в толпе прочих мальчишек, во всю эту катавасию, глазея во все стороны, как на ярмарке.
Пока вояки его гуляли, бандит Ланской не зевал. Исподволь собрал всех рыбаков, отобрал у них невода-сети, велел все пригодные-непригодные челноки, лодки конопатить, смолить. К походу готовить. Запылали по берегу костры, зашипела смола, застучали деревянные молотки, вгоняя в пазы паклю.
— Ну, Зоська, — сказал я, обняв друга, — ты не плачь, не тужи, выбирай лодчонку покрепче и давай сматывать удочки. Явимся раньше бандитов в Спасово и за все отомстим…
— Да, конечно, готовят они беду. Если не предупредить, захватят город с налету под самый Первомай.
— Вот то-то!
Шепчемся, а сами глаз с реки не спускаем. До чего же страшный ледоход! Льдины, бревна, деревья мчатся в водоворотах. От света костров вода пенится кровью.
Ужасно по такой воде в лодке пускаться, как на тот свет. Но резня в городе страшней будет. Сколько людей побьют! Родни у меня там нет, а дружки остались. Вспоминаю Лопатина и вижу его в руках бандитов, и по сердцу холод идет.
— Не испугаемся, Вася, а? Подождать бы, пока лед пронесет!
— Тогда бандиты раньше нас явятся, Зося.
— Эх, и верно! Ну, Вася, была не была…
— Давай, Зоська, решайся. Наших упредим…
— Всыпят они бандитам!
— Да уж погорячей, чем твоему отцу!
И ноги ведут нас мимо костров во тьму, где сверкают свежей смолой перевернутые рыбацкие челноки, лодочки-душегубки.
Рыбаки стучат, конопатят. Бандиты песни орут, самогон допивают. Атаманы вдоль берега похаживают, по голенищам плетками себя постегивают, им на станцию налететь не терпится.
На краю, подальше от огней, у овражка, стронули мы с места одну лодочку, перевернули, измазав в свежей смоле пальцы, и скользнула она в воду с тихим плеском. Прыгнул я на корму с веслом, украденным у рыбаков, а Зоська с багром.
Течение отнесло нас от берега, и челнок завертелся волчком. Воткнул я весло, хотел править, но льдины захватили его, как звери в зубы, и сразу наполовину сжевали. Зоська ткнул багром в бревно, высунувшееся из-под льдин, но оно вывернулось и ушло под воду вместе с багром. А когда оно снова всплыло, Зоська и выдернул свой багор.
Бешеная вода стремилась вперед с такой силой, что лодчонка наша, душегубка, летела мимо крутых берегов, как на воздусях, на пенных гребнях.
Нас крутило, вертело, и огни рыбацких костров мелькали со всех сторон. Ветер трепал по разливу дымок и угощал нас вкусным запахом смолы.
Вот огни костров пропали. Выглянул белый глаз луны. И мы увидели такое раздолье, что дух захватило. До самых далеких лесов, до темных холмов играла и пенилась вода и неслась неудержимо, дико в неоглядную даль.
Мы включились в разлив, отдались его буйной волюшке. Наше дело одно правь вперед, без оглядки.
Зоська крючил багром, я правил веслом, и лодка неслась, обгоняя неуклюжие льдины. Работалось весело, я разогрелся, даже волосы липли ко лбу.
Над нами пролетали стаи гусей, обдавая свистом крыльев, и, гогоча, садились в спокойные луговые затоны.
А кругом такой простор, что петь хочется.
Зоська на носу, я на корме, и словом не перекинемся.
Вдруг глядим — такое диво: встанет впереди бревно стоймя — и нет его, встанет другое и тоже куда-то нырь вниз.
Мы рты разинули.
— Ледяная перемычка! — догадался Зоська.
Вода бешено рвалась под лед, но не могла его поднять. Бежала поверх, обегала широкими лугами и затопляла их еще больше.
Льдины громоздились друг на друга и образовали затор. Иные ныряли под лед — вода затягивала их туда и колотила ими ледяной упрямый панцирь снизу. Точно играя, они ловко становились торчком.
Я сообразил, что может нырнуть под лед и наша лодка, и пальцы у меня стали непослушны.
— Зоська, назад! — заорал я, холодея от страха.
Зоська понял и кубарем скатился ко мне. Лодка задрала нос, у самого бучила приостановилась, как бы раздумывая, и вдруг легко скользнула по верху льда, в прогалину между глыбами.
Я перекрестился.
Зоська покосился на меня и опять уселся на носу с багром.
Впереди по льду гладко бежала веселая зеленая вода, а под ним бились и скреблись затянутые водой бревна и льдины.
И вот-вот он треснет, раскрошится — и, как семечко, хрустнет наша лодка, попав в такое столпотворение.
— Работай, черт! — крикнул мне Зоська. — Крестись веслом!
Я заработал, мы опять завертелись, и душегубочка, словно поняв наш страх, понеслась ласточкой.
А впереди стали гулко лопаться льдины, и в трещины вымахивала рыжими фонтанами вода.
«Попадешь на трещину», — подумал я. И тут же что-то дернуло, душегубка встала стоймя, меня ударило в голову, ноги скользнули, и я, хлебнув противной воды, пошел под лед… Сердце у меня дрогнуло, я обмяк и даже не карабкался.
Вдруг что-то твердое ухватило меня за шиворот и потянуло вверх. Я ухватился рукой за багор.
Зоська стоял по колени в затопленной лодке и удил меня из трещины. Мимо, бурля, бежала равнодушная ко всему зеленая вода.
Стоя в этой воде, мы подняли лодку, перевернули ее и, поставив снова, уселись и понеслись, отчаянно работая веслом и багром, дрожа от холода и страха.
Но вот неподнятый лед кончился, течение пошло ровней, и мы вздохнули свободно.
От меня шел пар. Мокрая одежда прела. Я ежился.
Лодка шла сама, местами набегали боковые речушки, и нас подхватывало веселей.
Только вдруг, смотрим, из боковой речушки выползает с шорохом серая рябая каша.
Что такое?
Луна скрылась и оставила нас в раздумье. Шорох приблизился, и мы напряглись, слушая его.
— Дрова, дрова идут! — тыкал Зоська багром напиравшие на лодку поленья.
И впрямь, из какой-то боковой речушки уплыл швырок и заполнил всю поверхность. Река одеревенела!
Лодка влезла в самую гущу, и мы застряли. Дрова стискивали нас, лезли под лодку, выпирали ее из воды.
— Ну, что будем делать, пропадать? — спросил Зоська, когда мы, опустив руки, сели после бесполезных попыток плыть дальше.
— Черти, и кто их упустил! — дрожа и синея, цедил я.
— Не дрова, а саргассы, — ругался Зоська.
— Погибнем, — скулил я.
— Ведь досаднее всего — погибнем от холода в дровах.
— Будем ждать ледяного затора; поднимется водяной вал — все расчистит, так и продерет, а больше нет ходов нам! — И Зоська стал слушать, что творится в ночи.
Дрова совсем выперли лодку наверх, и мы сидели, как на карусели.
Луна ехидно подмигивала, а меня от холода сводило в три погибели.