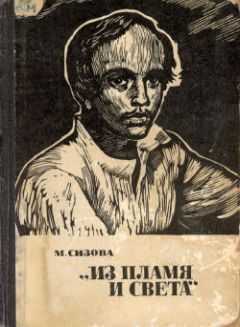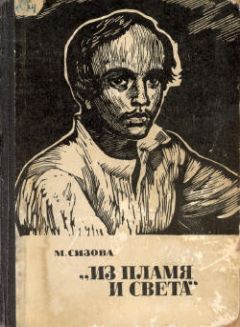— Говорят, за стихи-то голубчика и отправляют на Кавказ. Написал что-то такое… эдакое… весьма предосудительное.
— О сочинителе Пушкине, ваше превосходительство, мне точно известно, — ответил шепотом сосед.
— Слыхал о нем, — пробасил генерал, — но не читал.
Откашлявшись, он обратился к Лермонтову:
— Вы, милостивый государь, как слышно, на Кавказ получили назначение?
— На Кавказ, ваше превосходительство.
— Страна гористая. Горы там, можно сказать, со всех сторон. Разрешите узнать, вы сами изволили просить о сем назначении или такова воля начальства?
Лермонтов посмотрел в небольшие, под тяжелыми веками, глаза генерала.
— Меня туда ссылают, ваше превосходительство, за стихи о смерти Пушкина, которая была преступным убийством. Вот все, что могу вам сообщить, — и он отвернулся от пристально разглядывавшего его генерала к Алексею.
Но его превосходительство, еще не считая разговор оконченным, вдруг заволновался.
— Позвольте, господин прапорщик, но убийца Пушкина мог, в свою очередь, быть убитым, ежели бы этот сочинитель лучше стрелял. А уж коли стрелять не умеешь, так и не храбрись по-пустому.
— Вы так думаете? — переспросил Лермонтов, резко повернувшись к его превосходительству, и по тону его голоса Алексей и Мари поняли, что может разразиться буря.
— Не надо вспоминать об этом! — громко сказала Мари. — Мишель! Итак, вы едете на Кавказ? Но куда же именно? — старалась она замять опасный разговор.
— На Кавказ, в Нижегородский драгунский полк.
— В Нижегородский полк? — вмешался опять генерал. — Знаю, знаю. В Турецкую кампанию я на Кавказе был и дальше — в Турции.
В глазах Лермонтова вдруг загорелся озорной огонек:
— У меня был приятель из Турции родом. Он ее в стихах воспел. Стихи коротенькие, но занятные.
— Ежели коротенькие, то читайте, — снисходительно разрешил генерал.
— Если только я помню эти стихи до конца… «Жалобы турка», — начал Лермонтов и, прочитав все стихотворение, с особенной силой сделал ударение на последних строчках:
Там стонет человек от рабства и цепей!
Друг! Этот край — моя отчизна!
За столом воцарилось общее молчание, после которого генерал снова откашлялся и с преувеличенной вежливостью обратился к Лермонтову:
— Благоволите повторить, господин прапорщик, как именуется сие произведение вашего приятеля?
— «Жалобы турка», — подсказал сосед.
— Да, да, именно так. Приятель ваш жалуется на рабство и его цепи. А позвольте узнать, как имя автора сего сочинения?
— Лермонтов, ваше превосходительство, — при всеобщем молчании громко прозвучал ответ.
— Так-с, господин прапорщик. А вы в Турции бывали?
— Нет, ваше превосходительство.
— А позвольте спросить тогда, каким же образом вы так хорошо осведомлены о рабстве и о его цепях, которые тяготят народ в Турции?
Все присутствовавшие внимательно и пристально смотрели на Лермонтова, ожидая его ответа.
— По слухам, ваше превосходительство.
— Ах, вот как-с!.. — после паузы сказал его превосходительство. — Ну что же, я думаю, что вам действительно будет весьма интересен Кавказ, такой близкий сосед Турции…
— Я слышал, ваше превосходительство, — шепнул сосед, — что на приказе об отправлении сего прапорщика граф Александр Христофорович собственноручно написать соизволил: «Убрать подальше».
— Ваше здоровье, прапорщик Лермонтов! — поднял бокал генерал.
Но Лермонтов отвернулся к соседу и, сделав вид, что ничего не слышит, не ответил.
Алексей Лопухин возил Лермонтова и Монго по всем гостеприимным домам Москвы, где их принимали и провожали с теплым сочувствием и с обязательными московскими ужинами и обедами — шумными и многолюдными.
Дни пролетали с бурной стремительностью и, казалось, слились в один день, полный какого-то глубокого душевного смятения.
…Уже яркий ветреный закат окрасил небо над Москвой, когда к дому Лопухиных подъехала дорожная кибитка. Она должна была увезти Лермонтова еще утром, но то он сам откладывал час отъезда, то Лопухины.
Старик Лопухин, прощаясь, сказал ему с неожиданной отеческой наставительностью:
— Вот, видишь, и угодил за свой беспокойный нрав да за вольнодумство свое в ссылку! Разве можно было тебе Варюшку отдать? Горе с тобой мыкать?
— Вы правы, — ответил он. — Какой же я жених!..
— Конечно, — продолжал старик Лопухин, задумчиво разглядывая свою табакерку. — Бахметев намного ее старше, но Варенька всегда берегла наш покой. А теперь мы покойны. Муж ее — вполне приличная партия.
— О, разумеется!.. — с легкой усмешкой повторил Лермонтов.
Прощаясь со Столыпиным, он тихо сказал:
— Бабушку береги да посылай мне с каждой почтой журналы. Без журналов я пропаду там.
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.
ЛЕРМОНТОВ «Кинжал», 1838 г.
В одно жаркое майское утро главный врач пятигорского военного госпиталя никак не мог кончить свой обычный обход. Только вышел из второй палаты, как его вернули в палату для тяжелобольных. Едва вышел оттуда, как дежурный лекарь попросил его опять во вторую палату. Там больной отказывался от лекарства и требовал доктора.
Наконец он помог и там и тут и, дав молодому лекарю последние наставления, направился к себе в кабинет.
Но не успел он дойти до кабинета, как за ним опять прибежал дежурный с сообщением, что привезли нового больного, переведенного из ставропольского госпиталя.
— Тяжелобольной? — спросил доктор, снова завязывая тесемки на своем белом халате.
— Почти не ходит.
— В третью, сейчас приду, — сказал он отрывисто.
В коридоре перед третьей палатой с трудом усаживался в кресло молодой прапорщик в форме Нижегородского драгунского полка.
При появлении доктора он сделал движение, намереваясь приподняться, но, почувствовав сильную боль, виновато улыбнулся, преодолевая невольную гримасу.
— С чем пожаловали к нам, господин прапорщик?
— С ревматизмом, доктор. Дорогой простудился. Как приехал в Ставрополь, сейчас же в госпиталь попал. Теперь вот из ставропольского в пятигорский перевели.
Главный врач наклонился к вошедшему в коридор писарю, который принимал в госпиталь нового больного, и тихо что-то спросил.
— Лермонтов?! — воскликнул он, услышав ответ писаря, и повернулся к новому больному. — Рад, очень буду рад вас поправить. Слышал о вас, как же… Лермонтов! Вы знаете, кто перед нами? — обратился он к молоденькому лекарю, стоявшему около него в почтительном ожидании. — Это поэт Лермонтов, который попал сюда, как и многие кавказские военные, за грехи… Написал стихи на смерть Пушкина и угодил на Кавказ. Постойте-ка, друг мой, я чуть было не позабыл: ах, боже мой, надо немедленно послать за доктором Майером. Как это я сразу не вспомнил! Доктор Майер числится при штабе генерала Вельяминова, а сейчас живет у нас в Пятигорске. Вот с кем вы будете с удовольствием беседовать! Он и к литературе склонность имеет — как же, как же! — и умом обладает острым. Чрезвычайно интересный собеседник! Надо, Петруша, послать…
Через полчаса в палату быстро вошел человек маленького роста, с некрасивым и весьма необычным лицом.
Несмотря на заметное прихрамывание, он шел легкой походкой и, подойдя к Лермонтову, протянул ему обе руки.
— Неделю тому назад, — сказал он, — один приехавший из России приятель мой привез мне замечательные стихи. Они называются «Смерть поэта». Благодарю судьбу, которая сегодня свела меня с их автором! Такие подарки она посылает мне редко.
* * *
Прошел час, а доктор Майер все еще сидел на низеньком табурете около кровати Лермонтова и то с увлечением говорил, то с увлечением слушал, то смеялся резковатым, но заразительным смехом.
Он не ушел и через два часа. Молоденький лекарь, войдя в палату, чтобы напомнить посетителю о необходимости кончить свой визит, нашел и больного и посетителя в одинаковом возбуждении.
В руках у Лермонтова была записная тетрадь, которую он только что читал.
Маленький доктор Майер, прихрамывая, ходил взад и вперед по палате и что-то говорил, возбужденно жестикулируя:
— Вот то, что я называю отточенной мыслью!
Из противоположного угла с удивлением наблюдал за волнением посетителя единственный сосед Лермонтова по палате.
Услыхав, что им пора расстаться, доктор Майер и Лермонтов огорченно взглянули друг на друга.