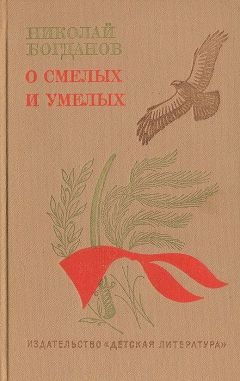— Только что начали устраивать, — как бы оправдывались ребята, всего раза три играли.
— Чего же вы играли?
— «Власть тьмы» играли.
— Сами?
— С учителем, он у нас, поди-ка, интеллигентный.
— А народ как?
— Ревели бабенки до слез, а мужики так стражника избили, хотя не до смерти, а водой отливали Никишку. Говорили ему, черту, сразу грим снимай, а он замешкался. Спектакли у нас до сердца доходят, народ у нас с сердцем.
* * *
Когда вечерняя прохлада стелилась с лугов, полная мятного запаха скошенного сена, Серега сел писать отчет о ревизии ячейки, а я пошел прогуляться.
Село стояло на холме среди болотистых лесов, как крепость, замыкая одну-единственную дорогу, идущую с севера на юг. Небольшая сырая луговина вся была устелена холстами для отбелки. По ним, резвясь, бегали босоногие ребятишки.
И вдруг я увидел пожилую женщину, припустившуюся с ними вперегонки. Она бежала, оглашая окрестность дурным криком. А за ней бежали два парня, грозя дубинками и увещевая:
— Стой, не беги, все равно догоним!
Я не успел понять, в чем суть, как женщина, набежав на меня, тут же упала на землю.
— Не отдам, не отдам — хоть убейте!
— Это что, кликуша? — спросил я подбежавших ребят.
— Спекулянтка. Из-под Шуи на Арзамас кусок мануфактуры тащит. На пшено, ишь, менять.
Верно, женщина прижимала к груди какой-то сверток, как ребенка.
— Ну, пойдем! — Ребята взяли и поволокли.
Заинтересовавшись, я пошел за ними. По дороге, дожидаясь, стояла еще кучка каких-то людей. Среди них как начальник — Рубцовый Нос. Перед ним человек с детской колясочкой. Они горячо о чем-то рассуждали.
— Я же рабочий, а ты крестьянин, должны мы друг друга понимать?
— А спекулянничать не могешь!
— Друг, — брал его за плечо человек с коляской, — друг, я же тебе говорю, не дает нам фабрика зарплаты, кроме натурой. Берем мы себе отпуск и честно идем поменять этот ситчишко на мучку, на крупку, а вы нас клеймите эдакими словами… Ну легко ли так?
— Я этого не знаю, мне давай бумагу!
Человек с детской колясочкой приложил руку к сердцу, Рубцовый Нос не дал ему говорить дальше.
— Пойдем в сельсовет, там разберемся.
Человек вздохнул и покатил свою колясочку, в которой лежали свертки ситца и кульки наменянных продуктов. За ним поплелась беглянка и еще несколько других.
— Вот четвертая партия за день, откуда-то из-под Иваново-Вознесенска. Издалека и все беспокойные. Упрел, — сказал мне Рубцовый Нос.
Изловленных привели к помещению ячейки, и не успел я оглянуться, как они очутились за какой-то крепко захлопнутой дверью в подвале дома. Я бросился искать Сережку.
Он ходил по веранде и чесал себе маковку, морща нос.
— Сел я писать отчет, и сам не рад.
— А что?
— Пришел Перстень и потребовал им его прочесть.
— Ну и что же?
— Не умею я писать хвалебные оды, вот и хожу.
Я рассказал Сереге о своей прогулке в луга и о том, как ловят «спекулянтов» здешние красномольцы и каких.
В подтверждение моих слов мимо окна проплелась та самая женщина без свертка, еще кто-то и человек, уж теперь без колясочки. Мы с Серегой бросились искать Перстня и наткнулись на него в коридоре. Он шел с каким-то рыжебородым мужичищей, побольше его, а впереди Рубцовый Нос катил колясочку, полную сверточков и разных предметов.
— Разве так можно? — завопил Серега. — Вы что, не отличаете рабочих от спекулянтов?
— Потише, потише, друг, — остановил его рыжебородый мужик, — я здесь власть на местах. Декреты мы знаем без вас: у нас даже не как у прочих, а без обиды — у кого что отберут — десять фунтов муки и на дорогу ковригу печеного хлеба. Обиды тут не должно быть.
— Все равно грабеж — с десятью фунтами или без них…
— А хошь ты за такие слова к нам в темную угодить? Милости прошу! Рыжий ехидно осмотрел нас и добавил: — У нас бы таких плохоньких близко до ячейки не допустили, а то: инструктора укома!
После этих слов Рубцовый Нос двинул колясочку, она заскрипела, поехала, и все, миновав нас, удалились в одну из комнат.
Когда мы собрались уезжать, пришел Ванюха Перстень и позвал нас за собой в ту самую комнату.
— Вот, — сказал Перстень, — это вам в уком наши членские взносы: как нет у нас денег, то возьмите натурой.
Перед нами лежала груда мануфактуры, куски сукна, несколько часов с цепочками, сапог хромовых и даже серебряный самовар.
Мы озадаченно переглянулись.
— Ничего-ничего, забирайте. Этот товар буржуйский. Серебряный самовар-то буржуй тащил! А кусок сукна — бывший купец волок.
— Нам и положить-то такие вещи некуда.
— Мы вам уложим, ребя, тащи!
Двое парней стали ухватывать и тащить нашему ямщику все добро.
— Хоть самовар-то оставьте! — молил Серега.
* * *
Как же легко мы вздохнули, когда миновали тряскую гать и выехали из леса! Солнце! Рожь волнуется. Ласточки летают. Милые! Позади топь и трясина, позади «угодниковы слезки» и ореховый куст, перед нами же шестьдесят ровных покойных верст стелются до самого нашего укома. Вот показалась мирная полевая деревушка, вся потонувшая в зеленых коноплях. Ни одного деревца — только скворечни тянутся к небу, качая смешными, растреснутыми головами.
— Теперь доедем, — облегченно вздыхает Сережка.
— Заранее не загадывай, — ямщик чешет маковку кнутовищем, — они народ того… Чего-то много вам надавали, боюсь, опомнятся, нагонят да отымут!
И только он это сказал — тут же с лица сменился.
— Едут, братишки, едут! — заголосил он.
Привстал на облучке и заколотил неистово конягу. И тут сквозь закрутившуюся пыль увидел я выметывающиеся изо ржи черные и рыжие гривы лошадей.
— Сто-ой-ой-ой! — несся вокруг нас крик.
— Пропали! — сказал Сережка.
Я оглядел его в последний раз, и так запомнился его милый утиный нос, большой лоб, всегда веселые раскосые, теперь прищуренные глаза и кепка, сдвинутая на затылок.
— Прощай, Сережа!
Рожь по краям дороги раздалась, и нас окружил табун облепленных кашкой и васильками коней. Перед глазами замелькали Рубцовый Нос, Перстень, и еще, и еще.
— Забыли мы, слышь!
— Отчет-то почитать забыли!
— Товарищи, — опамятовался Сережка, — вот ваш отчет, читайте и знайте, мы за вас по гроб жизни, крепкая вы ячейка!
Перстень взял бумагу и прямо с лошади стал читать «доклад».
— «О ячейке села Свобода (по-старому Сшиби-Колпачок). Таковая ячейка встречается в моей практике впервые. Ребят более крепких и спаянных я не видал. Оригинален метод, каким составляется ячейка, — ребят в нее выбирают сами граждане по принципу — самых удалых и красивых, называя красномольцами. Живут и работают красномольцы не покладая рук во славу Советской власти и себе на пользу. Славные дела их невозможно пером описать, надеюсь кое-что изложить устно, по приезде в уком…»
Красивее Сережка написать не сумел, но с них хватило и этого.
— А докладать так же будешь? — спросил после прочтения Перстень.
— Ну что ты, неужто как по-другому можно?
— То-то…
И вот в результате всех этих приключений привезли мы с Сережкой такой доклад, что не могли его прожевать укомовцы всем миром на трех заседаниях. И каких только нам вопросов не задавали! И каких только резолюций не предлагали!
И насчет количества выпитых нами ковшов пенной браги спрашивали, и по существу плясок с разбойницами. А уж по поводу привезенных нами членских взносов — мануфактурой, одеждой, душистым мылом, дамскими туфлями, офицерскими сапогами и прочим реквизированным у спекулянтов самым разным имуществом — столько было разных острот, что мы с Сережкой как караси на сковороде вертелись.
Целое паломничество к нам в уком открылось. Как в музей люди заходили поглазеть на экспонаты.
Про красномольцев-разбойников по всему городу уже сказки рассказывали. Рубцовым Носом детей пугали.
Вот после всего этого и поставь вопрос о приеме этой дикой ячейки в союз, о названии ее комсомольской!
И без того нас враги-обыватели костили-честили, не хватало, чтобы обозвали разбойниками.
Как тут быть, что делать? Думайте, укомовцы, думайте. На то в руководство избраны.
Думали, думали ребята, головами качали, правильного решения так найти и не могли.
Жаль, товарища Янина не было — председателя. Этот бы правильно решил. Он все села знал, какое чем дышит и чем от других отличается. Но его вызвали в Тамбов.
И вдруг сама жизнь все решила-вырешила.
На самое последнее заседание ворвался вдруг начальник ЧОНа[1] Климаков. Он всегда врывался. Его вопросы не терпели отлагательства. То восстание кулаков в мордве, то нападение кулацких банд на Шацк, то приближение антоновцев к линии железной дороги. И всегда дело кончалось поголовной комсомольской мобилизацией и выездом в угрожаемый район с оружием в руках.