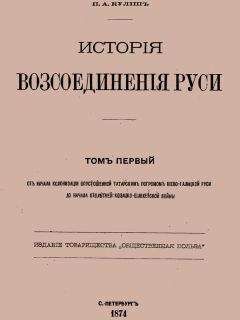Подкрепив свои силы размоченными в воде сухарями, казаки расположились под деревьями на отдых. В это время к атаману подвели старика.
Согбенный, обросший белой, как лунь бородой, старик был слеп на оба глаза.
— Добрый вечер, пан кошевой! — сказал он с поклоном.
— Добрый вечер, дидусь! — ответил Сирко.
— Мне ваши молодцы сказали, что Господь Милостивый послал нам в гости самого Сирка, — продолжал дед, опираясь на высокую палку. — Такой радости мне и во сне не снилось… Если б не вы пане-атамане, томился бы я до сей день в басурманской неволе… Вы меня вызволили оттуда и жинку мою вернули, и деток. Спасибо вам, пане-атамане! Дай вам Господь удачу во всех делах ваших и благослови ваш путь!
— Садись, дидусь, рядком да потолкуем ладком — приветливо обратился к старику атаман.
Дед опустился рядом с кошевым на траву и начал рассказывать окружающим повесть перенесенных им да его близкими страданий. Чего-чего только не натерпелись они в крымской неволе!..
— Я был совсем еще молодым, когда началось мое горе, — повествовал слепец. — Жили мы под Киевом, рыбачили, и всего у нас было вдоволь. Нечего душой кривить, хорошо жили… Детки мои подрастать стали… Все соседи наши, глядя на мое житье, завидовали и спрашивали меня порой: «Отчего это, Данило, тебе такая удача во всем?» — «Кто работает, не покладая, рук, тому всегда удача», — отвечал я им и снова уходил в днепровские заливы на рыбный лов. Старый Днепр и кормил нас, и поил, и всю нужду нашу покрывал — как же, мне было, не любить его?! Отец родной не сделает для сына того, что он для нас делал. Когда, бывало, в половодье старик разворчится, нахмурит седые брови, закипит, заревет, — я только посмеиваюсь, — знаю, что он не взаправду сердился а так только, для острастки. Ревет Днепр, швыряет волнами в крутые берега, белая пена клубится, как в котле, а я на своем челне плыву по заливам да выбираю местечко получше, куда буря больше рыбы нагонит…
«Любит дидусь поболтать, охотник покалякать!» — думал Сирко, улыбаясь в усы.
— Случалось мне покидать хату на неделю и дольше, — продолжал слепец, — Раз я месяц пробыл в отлучке. У меня курень свой был на старом Днепре… Вернулся домой, а жинка и говорит мне, что её родители померли, и нужно нам ехать свою часть получать. — «На что нам эта часть!» — говорю ей, а баба, известно, по-своему, — «Хоть у нас всего вдоволь, говорит, — но от добра отказываться не приходится; если не для себя, то для детей, а взять надо»… — «Пусть будет по-твоему», — сказал я и стал собираться в дорогу. Путь был не близкий… Поехали мы всей семьей, с детьми. Хотели богатеями стать, а судьба повернула по-своему, и мы, вместо нового добра, потеряли и старое. Налетел на нас татарский разъезд и погнал в Крым… Чего только мы не натерпелись в неволе… Три раза я хотел бежать на родину, чтобы выкупить потом жинку и деток, но каждый раз меня ловили и за третьим разом порешили ослепить… Сгнили бы наши кости в буераках татарских, если б вы, пане-атамане, со своими молодцами не вызволили нас, бедных. Не вижу я солнышка не вижу света Божьего, но зато я знаю, что мои детки на воле, что опустят меня не в чужую землю, а в свою, родную…
Теперь я у старшего сына век доживаю… Хотелось бы мне только перед смертью еще раз прийти на днепровские берега и послушать, как шумит старый Днепр, как его резвые волны с ветром перекликаются.
— А сколько тебе лет, дидусь?
— А вы, пане-атамане, как думаете?
— Думаю, что много…
— Вот и ошиблись… да, ошиблись! Не годы, а горе меня состарило, темнота меня к земле пригнула. Если б не это, — я, может долго бы еще гулял на своем челне по днепровским порогам, заводил бы невода, ставил бы ятеря по заливам и не знал бы ни горя, ни печали.
Месяц давно вскрылся. Упала обильная роса, и Сирко вместе со своим зятем и пленным мурзой расположился в новой, недавно отстроенной хате на ночлег. Молодые казаки, сопровождавшие кошевого, отправились в пустую клуню. Улеглись и хозяева. Вскоре все обитатели хутора уснули крепким, здоровым сном. Не спалось только старому рыбаку. Лежа на печи, он ворочался с боку на бок, вспоминая минувшие времена.
Видел он себя снова здоровым, бодрым, полным сил, и в темноте ему казалось, что стоит только переступить за порог хаты, чтобы увидеть, как на востоке вспыхивает ясная утренняя зорька. Желание это было так сильно, так неудержимо влекло его к свету, что он свесил с печи ноги, осторожно, стараясь никого не разбудить, вышел в сени и ощупью пробрался к двери. Но не успел он перешагнуть за порог, как чья-то тяжелая рука опустилась ему на плечо, и незнакомый голос спросил его отрывисто:
— Кошевой Сирко здесь?
— Он спит, — ответил дед, недоумевая, каким это образом сопровождающий кошевого казак не знает, где его атаман.
В эту минуту его отбросили в сторону, и он только слышал, что в сени ввалилась целая гурьба людей. Вот раздался голос атамана, призывающий своих к оружию, громыхнул выстрел, затем звон скрестившейся стали, крики, треск мушкетного, огня, — и все стихло. Только с другого конца двора доносятся удары молота по железу, да возле хаты кто-то тихо стонет…
Слепой рыбак понял, что с его дорогим гостем приключилась беда, что на него неожиданно напали враги; но в то же время ему не хотелось верить, что Сирко захвачен врасплох, что храброго и непобедимого атамана обманом одолел подкравшейся в темноте враг. А между тем было так…
Гроза турок, Сирко воевал с воинами, нападал в военное время, и чем стремительнее было нападение, тем больше удали в нем было. Но проезжего путника, будь то его враг, он никогда бы не тронул. Не так поступал полтавский полковник Федор Жученко. Ему не под силу было сразиться открыто с Сирком, — вот он и стал его выслеживать. Случай представился удобный. Полковник знал что кошевой едет один с самой незначительной стражей да еще везет пленных татар. Прихватив с собой целый отряд хорошо вооруженных людей, он пустился в погоню, напал на спящих и, прежде чем они успели опомниться, перебил молодых казаков, а Сирка с зятем и пленного мурзу заковал в цепи. Он знал, что этим не только отомстит своему врагу, но и заслужить одобрение украинской старшины, боявшейся соперничества Сирка.
Когда алое солнце выкатилось над степью, Сирко был уже в оковах, но присутствие духа не покидало его. Он окинул своего врага презрительным взглядом и спросил громко, чтобы все слышали:
— Сколько тебе, пан-полковник, мои враги заплатят за предательство и за твою храбрость?
— Погоди, скоро ты прикусишь свой язык! — злобно ответил Жученко.
— Кто его знает, кому придется из нас закусить язык? Счастье переменчиво… А только хотел бы я знать, по чьему приказу ты действовал?..
— Не твое это дело. Бунтовщиков и без приказа надо хватать. Ты думаешь, мы не знаем, как ты протягивал руки к гетманской булаве.
— Вот что!.. Наша бедная булава перебывала в таких поганых руках, что за нее страшно и браться.
— Ты ответишь еще и за то что порочишь старшину.
— Не бойся, — ответ я сумею держать, только не поздоровится вам от моего ответа.
Полковник с сердцем плюнул в сторону Сирка и отошел прочь, но через минуту он снова приблизился к нему и спросил, покручивая длинный толстый ус:
— Отдай нам казну, которую имеешь при себе.
— Кто умеет разбойничать на большой дороге, тот и воровать умеет. Сам возьми!
— И возьму! Думаешь, побоюсь?
— Нет, я знаю, что ты храбрый, когда мои руки в цепях… Я твою храбрость давно знаю… Помнишь, как мы с тобой в поход шли к Каменцу, как встретили орду, и я тебя нагайкой из кустов выгонял, чтоб ты…
— Замолчи, или я тебя!.. — крикнул не своим голосом Жученко и выхватил саблю.
— Бей, руби, — мои руки крепко закованы! — спокойно произнес Сирко, не моргнувши даже глазом.
Полковник опустил саблю, отошел прочь и начал обыскивать дорожный скарб кошевого, думая найти там деньги. Но старания его оказались напрасны. Тогда он приказал своим людям снять с атамана пояс. Приказ был исполнен, и в широком поясе было найдено немало золотой монеты.
— Ты не только добрый трус, но и вор хороший, — заметил Сирко, наблюдая, как полковник опоясывается его поясом.
На этот раз Жученко ничего не ответил и велел казакам собираться в дорогу. Смущенные, до смерти перепуганные хуторяне жались к плетню, глядя, как их гостя вместе с татарином тащат к возу. Вскоре воз с закованными пленниками выехал за ворота и, окруженный сильным конвоем, двинулся по батуринской дороге. Старый слепой рыбак плакал, как ребенок, слушая рассказы сыновей.
— Осиротело войско низовое!.. Осиротела наша Украина! — повторял он жалобно, и в эти минуты он охотно отдал бы свою жизнь, чтобы возвратить свободу кошевому атаману.
Татарин относился ко всему окружающему с прежним безучастием. Что происходило в душе его, этого, разумеется, никто не знал, но наружно он был совершенно спокоен. Его заплывшее жиром лицо выражало полнейшую апатию.