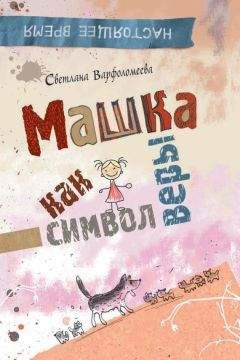– - Я пил чай. От чая хмелен не будешь. Вот вино нехорошо, -- убедительно сказал Макарка. -- Я пьяных боюсь вот как, глядеть нехорошо… рвет их.
– - Зато у пьяного силы прибавляются. Эна какие храбрые, да и веселые! Песни поют.
– - Песни и так поют…
– - Я бы в деревню сейчас поехал, -- вздыхая, проговорил Мишка.
– - И я… -- сказал Макарка и печально замолчал.
Этот разговор растревожил ему сердце. Он вспомнил, что в деревне его стрясли с шеи; вернись он -- пожалуй, и не примут. Мальчика охватила глубокая грусть.
"Что бы это такое сделать, чтобы меня мамка с девками полюбили?" -- мелькнуло у него в голове.
Его не любили за то, что он напоминал отца. А отец был слабый, неспособный. И в нем поднялось желание быть сильным, шустрым, способным. Он мгновенно забыл отвращение к работе за машинкой, бессонные ночи и загорелся желанием скорей втянуться в дело, чтобы все ткачи им были довольны и он стал бы первым шпульником. Молча они сползли с костра дров и молча разошлись. Мишка побежал в кучерскую, к отцу, а Макарка стал бродить под окнами корпуса. Он бродил и думал: как же это ему сделать, чтобы быть ловким и шустрым? С таким желанием он и заснул вечером.
А ночью опять послышалось: "На смену!" Опять всех обходили и дергали за ноги. Опять при тусклом свете керосиновой лампы замелькали серые, недовольные лица, опухшие от спанья глаза. Голова была тяжелая, и от желания спать даже тошнило. Когда приходишь в корпус -- тошнота усиливается и делается едва выносимой. И вместо желания быть бойким и ловким давит одно желание: спать. Макарка стоит у станка, как испуганный цыпленок, неверной рукой надевает шпульки, долго возится с оборвавшейся ниткой. -- "Господи, да неужто это всегда так будет?!" -- И ему хочется зареветь.
Прошло уже несколько недель. В одно воскресенье Матрена за утренним чаем сказала Макарке:
– - Ну, сегодня пойдем -- сходим к твоему крестному.
– - Ладно, -- согласился Макарка.
По воскресеньям он чувствовал себя много лучше. Фабрика останавливалась в полночь, и их на смену не будили; поэтому они спали всю ночь. Когда напились чаю, он пробрался в паровую, натер себе масленой рванью, которой вытирали машину, сапоги, отчего они стали черные и ясные, вымыл руки и опять пришел к тетке.
– - Ну, пойдем, -- сказала Матрена, нарядившаяся в люстриновую кофту и черный шелковый платок.
– - Пойдем.
Они подошли к воротам. Их обыскали и выпустили. Путь их был тою дорогой, какой они шли с крестным. Подходя к Кремлю, они прошли мимо сада. Там зеленела трава, липы распустили все листья и давали густую тень. И вид этой зелени после коричневых стен, каменных мостовых настолько был приятен Макарке, что у него запрыгало сердце.
– - Вишь, как тут… деревья-то все подстрижены, травка словно расчесана -- любо глядеть. А нешто у вас в деревне так?
"Не так, а лучше", -- думал Макарка, и думал, что теперь делается в деревне. Небось собираются на лугах, где соберутся ребята и девки со всех деревень, и водят хороводы. А его ровесники бегают вокруг, кидаются шишками или бродят по реке, ловят огольцов…
Они пошли в Кремль. Тетка снова стала говорить о том, что в Москве лучше деревенского. Она говорила о святых угодниках, почивших в соборах. Какая им бывает служба и какой почет. Они лежат в серебряных и золотых раках, а венцы над ними в самоцветных камнях.
Макарка одним ухом слушал, что говорит тетка, а в другое выпускал; тетка, заметив его невнимательность, замолчала.
Вышли на мост, перешли его, прошли тут улицу, в конце которой стояла фабрика, где жил крестный, и подошли к воротам. Дворник спросил, кого им надо; Матрена сказала.
– - Он в трактире, у Нагайкина.
Пошли в трактир. Трактир был набит фабричными, проводившими здесь свои праздники. Одни сидели пьяные, другие навеселе. Павел был подвыпивши. На их столе стояли полбутылки, чай, калачи и печеные яйца. С ним в компании гулял рябой, белоглазый парень, у которого волосы на голове и бороде были белы, как лен. Парень сидел, положивши обе руки на стол, и, уставившись на него пьяными глазами, говорил:
– - Я тебя угощаю, а ты пей. Любишь ты меня али нет?
– - Ну люблю, ну? -- говорил Павел, и на его устах сияла его постоянная улыбочка.
– - Ну и пей, больше никаких… Я за все отвечаю, и тебе нечего разговаривать.
Увидавши Матрену и Макарку, Павел, видимо, обрадовался; он живо встал им навстречу и воскликнул:
– - А, мое почтение! землячка с крестником! Добро жаловать.
Он ушел из-за стола белокурого и занял новый стол. Белокурый обиделся и, кидая ему выразительные взгляды, качал головой. Павел не обратил на это никакого внимания и стал угощать Матрену и Макарку. Он предлагал "монашке" выпить, но та отказалась. Остановились на одном чае и сухарях. И два часа пили чай, слушали пьяную брань и песни, дышали табачным воздухом. У Макарки закружилась голова, и ему стало казаться, будто бы он сам выпил. Когда чай кончили, Павел пошел их провожать. Хмель еще не прошел у него, и улыбка играла на его губах. Он говорил:
– - Я всегда могу вас принять… и угостить… Приходите ко мне в любое воскресенье, и я не только чаю, а чего хошь -- не пожалею.
– - Много довольны, -- говорила тетка, -- нас навещай.
– - Не забуду, приду. Будь покойна. Крестник! навещать приду… На тебе семитку, подсолнухов купишь.
Матрена и Макарка опять вернулись на фабрику. В спальне его ожидал Мишка; только Макарка вошел, как Мишка бросился к нему навстречу и заявил:
– - А мы за заставой были.
– - С кем?
– - С Похлебкиным. По луговине ходили… лежали, как в деревне!..
– - Ну? -- с загоревшимися глазами воскликнул Макарка.
– - Сейчас умереть! Очень хорошо… Хошь, в то воскресенье пойдем?
– - Пойдем, -- согласился Макарка.
В следующее воскресенье Макарка, напившись у Матрены чаю, побежал к Мишке; Мишка как встал, так и ушел к отцу в кучерскую. Отец Мишки, Василий, высокий, жилистый мужик с бородою клином, ходивший всегда в розовой рубашке и холстинном фартуке, брал Мишку по праздникам к себе пить чай и давал семитку на ситничек. Мишка тоже отпил чай и сидел на отцовской койке и глядел, как отец с кучером режутся в шашки.
– - Пойдем, Мишка? -- несмело спросил Макарка, боясь, как бы отец его не остановил.
– - Пойдем! -- ответил Мишка, быстро соскальзывая с койки.
– - Куда это? -- равнодушно спросил Василий.
– - За ворота, -- сказал Мишка.
– - Смотрите, не балуйтесь там, а то виски нарву.
Ребята вышли из кучерской.
– - Надо хлебца с собой взять, а то обедать-то не придется.
– - Пойдем возьмем.
Набивши карманы хлебом, ребята выбежали за ворота. Утро было радостное. Солнце, весело смеясь, поднялось довольно высоко; ему улыбались белые стены и зеленые крыши домов, а кирпичные краснели от конфуза, что они не могут так ответить на привет его лучей. Главы же церквей так и сыпали искрами от восторга. В воздухе плавал колокольный звон, а в глубине города волны этого звона казались особенно густыми и сочными. Они заглушали треск извозчичьих пролеток и топот шагов идущих по тротуарам людей. Люди тоже шли с веселыми лицами, нарядные дамы и барышни все больше в белом. Сияла Москва-река, на которой укрепляли купальню, и сновали редкие лодочки. Мальчишки, еле переводя дыхание от радости, взбежали на мост и торопливо, точно боясь на что опоздать, устремились дальше.
Прошли улицу, которая тянулась за мостом на целую версту, и подошли к заставе. Эта застава обозначалась только двумя столбами и будкой. Около будки стоял городовой. Постройки за заставой пошли меньше. Тротуары кончились, и вместо мостовой пошло шоссе. По бокам шоссе тянулись узенькие, плотно утрамбованные дорожки, окаймленные такой травой, какая росла в деревнях на улице. Они сейчас же сошли с шоссе на боковые дорожки, и Макарка сказал:
– - Давай разуемся?
– - Давай.
Они сели на траву и стали стягивать сапожонки. Связав сапоги за ушки, они перекинули их через плечо и, осторожно ступая освобожденными ногами, которые отвыкли от прикосновения к земле, побежали вперед.
В стороне раскинулось кладбище, огороженное оградой, а ограду окружала луговина. Луговина была свежая, малопотоптанная, с мягкой, нежной травой, влажной от росы. Ребятишки бежали по траве, и восхищенный Макарка воскликнул:
– - Как в деревне!
– - Да, -- согласился Мишка.
Макарка бросился на землю, растянулся навзничь и зажмурил глаза. И вдруг его поразило, что здесь в земле не было тишины, как у них в деревне. Она явственно гудела. Огромный город, полный движения и суеты, передавал по земле свой гул, и этот гул заглушал все те шорохи в траве, которые обычно слышатся молодому чуткому слуху на деревенском лугу.
Макарка невольно вскочил и поглядел на этот шумевший и гудевший город.
А в городе продолжали сыпать искрами главы церквей, разливался колокольный звон, вздымались красные трубы. Некоторые и сегодня, несмотря на праздник, дымились, и их густой темно-сизый дым тянулся в сторону, как хвост плети, которой замахнулась невидимая рука на людей, живших в городе.