Один из костюмов — синий в полосочку — особенно приглянулся Ивану. Он не удержался и пощупал пиджак: материал был плотный, гладкий. Скомкаешь его, а он сам разгладится, ни одной морщинки не остается. И подкладка — шелк.
— Изволите примерить, молодой человек? — угодливо спросил приказчик.
Говорил он быстро и проглатывал гласные: вместо «молодой человек» у него получалось «млдой члвек».
Иван хотел сказать: «Нет, не нужно!» — но язык как-то сам выговорил:
— Можно…
Приказчик провел его в угол магазина, за длинную — до пола — тяжелую занавеску из зеленого бархата; там Бабушкин быстро натянул на себя брюки, жилет и пиджак и повернулся к зеркалу. Костюм был словно на заказ сшит — нигде не жало и не морщило. И длина брюк — как раз. Не костюм — загляденье. И стоит ровно десять рублей.
— Прикажете завернуть или прямо на себе оставите? — одергивая и оглаживая на Иване пиджак, любезно осведомился приказчик.
И тут только Бабушкин очнулся.
«Что я, спятил? — сердито подумал он. — Ведь деньги для матери…»
Иван покраснел и нахмурил брови. Отступать теперь было уже неловко.
«Эх, была не была — купить, что ль? — вздохнул он. — Уж больно пригож…»
Но тут же одернул себя: «Нет, нельзя…»
Он снял пиджак, долго придирчиво колупал материю на брюках и жилете и наконец сказал:
— Ворс тут… это… длинноват. И колер… линялый…
Лицо у приказчика сразу вытянулось.
— Колер линялый, — передразнил он, сердито вешая костюм. — Деньга у тебя слиняла, вот что! Ходят тут всякие… Голытьба!
— Это кто «голытьба»?! — возмутился Иван и гордо потряс перед носом приказчика десятирублевкой. — Может, вы и есть голытьба. А у нас кредитки не переводятся, ровно сами их на печатном станке тискаем…
И он неторопливо вышел из магазина.
«Чуть не влип», — облегченно подумал он, влезая на империал[8] конки и направляясь к пристани.
Настроение у Ивана сразу стало чудесным. Сохранил деньги для мамы. А костюм — черт с ним, другой раз купит.
Маленький, неуклюжий пароходик, шлепая плицами по темно-свинцовой воде Финского залива, повез Бабушкина на далекий остров, еле заметный на горизонте.
Иван стоял на палубе, глядел на переливающиеся, как перламутр, жирные круги нефти и масла, плывущие мимо, и думал о матери.
Екатерина Платоновна давно уже перестала служить в кухарках у акцизного чиновника и теперь жила в Кронштадте, в небольшой полуподвальной комнатке, перегороженной пополам шкафом и старой ширмой, на которой была вышита цапля с длинным клювом. Хвоста у цапли не было: в том месте на ширме зияла дыра. Одну половину комнаты занимали два молодых парня — плотники, в другой помещалась Екатерина Платоновна с дочкой Машей и новым мужем.
Иван усмехнулся. Он все никак не мог привыкнуть к новой фамилии матери: Лепек, Екатерина Платоновна Лепек. Фамилия почему-то казалась ему смешной и какой-то ненастоящей.
Вспомнив отчима, Иван задумался. Матвей Фомич Лепек, рабочий-котельщик, невысокий, с длинными усами, глуховатый, как многие котельщики, оказался добрым и непьющим. Но очень болезненным.
Иван слышал, что когда-то Матвей Фомич был здоров и силен. Он работал на сплаве. Однажды осенью сильный ветер разметал плоты, и Матвей Фомич, по пояс в ледяной воде, полдня крепил бревна. С тех пор он и занемог, а потом врачи заявили: туберкулез.
Вот и сейчас, Ваня знал, отчим лежит в больнице, а мать еле сводит концы с концами. Кем только не работала Екатерина Платоновна! И окна мыла в магазинах, и белье брала стирать, и полы нанималась мыть, и — зимними вечерами — теплые платки вязала. Но все равно зарабатывала гроши.
Матери не было еще и сорока лет, однако вечная нужда и заботы изрезали морщинами ее лицо, согнули плечи. Щеки у матери впалые, желтые, волосы — редкие. Она походила на старушку и даже платок на голове повязывала по-старушечьи. Но Иван не помнил, чтобы мать когда-нибудь жаловалась. Была она тихой, работящей и такой незаметной, что казалось — ее и нет.
Стоя на палубе пароходика и разглядывая вырастающий вдали Старый Котлин, высокие трубы, силуэты кораблей, Иван с горькой обидой думал о судьбе матери. «Доколь же ей гнуть спину над корытом?! Доколе мыть полы в чужих квартирах?!»
…Когда Иван, радостно возбужденный, вошел к матери, та стирала. Рукава ее были высоко закатаны и красные жилистые руки до локтей покрыты мыльной пеной. От сильных движений ее рук дырявая ширма тряслась; бесхвостая цапля дергалась, словно пыталась дотянуться своим длинным клювом до корыта.
— Ванюша! — ахнула мать, торопливо вытирая руки о передник и изумленно оглядывая сына, которого она не видела уже с полгода. Он казался ей незнакомым и очень солидным.
Сестренка Маша стояла в углу комнаты с иголкой и куском полотна в руке. Она подрубала платки для той купчихи, у которой мать брала белье в стирку.
Завороженными глазами смотрела девочка на брата. Как изменился он за последние годы! Из угловатого парнишки превратился в юношу, не очень высокого, но стройного, с крепкими плечами. Лицо у Ивана чистое, русые волосы гладко зачесаны назад.
— Вот, мама… Я вам привез — смущенно сказал Иван и положил на стол десятирублевую бумажку.
Екатерина Платоновна вдруг зарыдала. Закрыв лицо руками, плакала, не произнося ни слова.
— Ну что вы, мама… Ну, всамделе… Успокойтесь, — растерянно говорил Иван.
Но мать, припав к его груди, продолжала всхлипывать и что-то беспомощно бормотала о «доброте сыновней», о том, что не дожил Василий до счастливого часа.
— Добытчик… Кормилец вырос, — сквозь слезы повторяла она.
За Невской заставой по Шлиссельбургскому тракту медленно двигалась конка. Старенький вагон звенел, дребезжал, и казалось, вот-вот рассыплется.
Наверху, на империале конки, стояли молодой розовощекий господин в шляпе, с тяжелой красивой тростью в руке, и пожилой сумрачный чиновник — школьный инспектор.
Мимо тянулись унылые, облезлые деревянные домишки; лишь изредка попадались невысокие кирпичные здания. Вдоль всего тракта глубокие вонючие канавы, а около самых домов проложены узенькие деревянные мостики для пешеходов. Иначе — совсем утонешь в грязи.
Но людей почти не было видно. Даже из трактиров и чайных, которые густо лепились в этих местах, не доносились обычные звуки граммофонов.
— Почему улицы так пустынны? — удивился господин в шляпе. — Ведь уже полдень…
Школьный инспектор повернул к нему бледное желчное лицо с дряблыми, отвислыми щеками и хмуро ответил:
— Сразу видно, что вы, милостивый государь, редкий гость на петербургских окраинах. Здешние мастеровые — скоты, свиньи. По случаю воскресенья нажрались водки с утра пораньше и дрыхнут…
На остановке к конке подошла худенькая девушка в стареньком легком пальто. Она зябко ежилась и грела руки в муфте: с Невы дул пронзительный ветер.
— А такие вот, стриженые… курсистки всякие… — чиновник указал глазами на входящую в конку девушку, — хотят из этих скотов людей сделать. Школы для них открывают. И заметьте, милостивый государь, сами бесплатно учительствуют… Миллионеры, видите ли, сыскались! Им деньги не нужны. На благо народа живота своего не жалеют! — Инспектор желчно хихикнул, вытащил огромный клетчатый носовой платок и оглушительно громко высморкался.
Розовощекий господин с любопытством оглядел девушку.
— А она вовсе и не стриженая! — вдруг воскликнул он.
Действительно, из-под простенькой шляпки у девушки выглядывал тяжелый узел волос.
— Все равно — курсистка! «Свободомыслящая особа»! — Инспектор насмешливо поднял палец ко лбу. — Меня не проведешь! Я их нюхом, нюхом чую…
Иван Бабушкин проснулся от громыхания конки под окном. Было светло.
«Проспал!» — тревожно подумал он.
Но сразу же вспомнил, что нынче воскресенье, можно не вставать в половине пятого утра, как обычно, а отоспаться за всю неделю.
Он снова укрылся одеялом, потом, словно вспомнив что-то, вскочил и подошел к маленькому мутному осколку зеркала, стоящему на подоконнике. На лбу краснела ссадина и виднелся большой желвак.
«Здорово!» — усмехнулся Иван.
Вчера вечером он, усталый и измученный донельзя, возвращался с завода. Мастер то и дело оставлял людей сверхурочно. И без того работа начиналась затемно, в шесть часов утра, а кончалась лишь в восемь вечера, а тут еще эти «экстры» (так на заводе называли сверхурочные экстренные работы). За полчаса до гудка мастер подходил к фонарю, тускло мерцающему у входа в цех, и вешал на него объявление: «Сегодня работать ночь».
Рабочие ругались, но делать нечего, хочешь не хочешь — оставайся в цехе. А вдобавок пришел срочный заказ. Мастер так обнаглел, что заставил Бабушкина и его товарищей шестьдесят часов подряд не отходить от тисков, разрешая лишь короткие перерывы для еды.

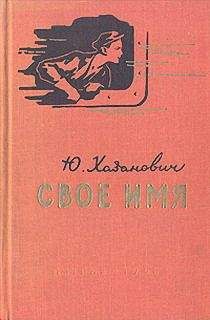

![Сергей Лексутов - Ефрейтор Икс [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/96438/96438.jpg)

