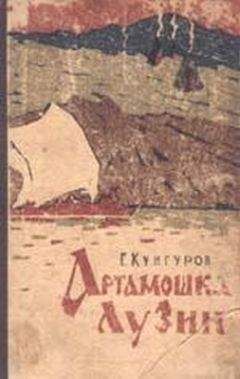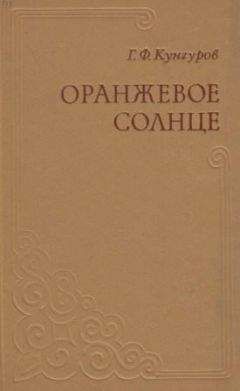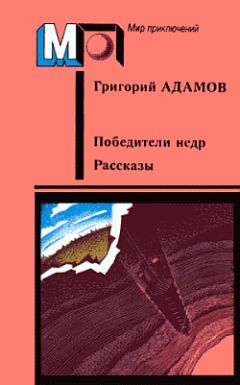Буряты, заметив это, хлынули к воротам, но со стены ударили пушки, черные ядра взрыхлили землю, тяжело повис густой пороховой дым. Когда черное облако рассеялось, бурятские конники уже стояли за пригорком, возле перелеска. Пешие воины рассыпались неподалеку от крепостной стены и метали стрелы.
Жители городка в страхе скрывались. Старый поп Исидор служил молебен в пустой церкви. Перепуганным голосом молил он о победе над врагом, кадило выскальзывало из его рук.
Надвигался вечер. Кровавый закат отражался в Ангаре огненным заревом. Осажденные видели в этом худое предзнаменование и готовились к смерти.
Башенный казак дал тревожный сигнал:
— Переговорщики идут!
К стенам городка на белых лошадях ехало шестеро бурят. У переднего на пике виднелся белый флажок.
Воевода распорядился допустить переговорщиков к воротам, но не ближе десяти сажен.
Переговорщики, в синих шелковых халатах, в высоких острых шапках с красными кисточками на макушках, с пиками наперевес, остановили лошадей. Лошади в хлопьях белой пены мотали головами, грызли удила и злобно рыли копытами землю. Сбруя серебряной чеканки ярко блестела, расписные монгольские седла были оторочены желто-красным китайским сукном. Вперед выехал бурят с флажком на пике и, растягивая каждое слово, кричал на ломаном русском языке:
— Худо делал… Белому царю жаловаться будем… Тело старого Дибды отдай! Аманатов всех освобождай!
Воевода приказал тело отдать. Об аманатах просил дать ему подумать. Переговорщики получили тело старого аманата и бережно отнесли его в свой лагерь.
Стало темно. Подул ветер. Ангара вздыбилась, забушевала. Бурятские воины зажгли костры.
Притих городок Иркутский, окруженный врагами с трех сторон. У костров слышались возбужденные выкрики людей, лязг оружия и ржанье лошадей. По небу плыли грузные облака, луна изредка бросала блеклые лучи и вновь пряталась в темные клочья туч. Казаки на шатрах башен вглядывались в темноту, перекликались протяжными голосами, нетерпеливо ждали утра.
Воевода часто посылал на башни либо казака, либо Артамошку, и всякий раз дозорные отвечали:
— Темь… Разве в этакую темь что углядишь! Передай батюшке воеводе, что у костров буряты да иные воровские людишки саблями скрегочут, лошадей злобят. К утру быть бою страшному.
В густом предутреннем тумане по зарослям, по рытвинам ползли со стороны бурятского стана лазутчики-запальщики. Раздвигая кусты да болотистые травы, без шума и шороха, как тени, подползли они к крепостному рву, миновали его; скользкими ужами проползли меж колючек и коряжин, ощупали городские стены. Каждый приволок с собой пучок соломы, берестяные трубки, наполненные смолой. У каждого наготове кремень и трут; надо только закрыться с головой полою своего халата, выбить искру, поджечь смолье, а там и не заметишь, как начнет хватать огонь бревно за бревном.
Подпальщики ждали сигнала. Его должны были дать с горы горящим снопом, подброшенным пиками вверх. Напрасно они напрягали глаза, всматриваясь в темноту: сигнала не было.
Молодой бурят Солобон, прильнув к земле, мечтал о том, как поползут желтые языки огня, рухнут стены — и он первый ворвется в город.
Нудно и тягуче тянулось время, сердце тревожно колотилось, а сигнала все не было. Дрожал от злобы Солобон.
Вдруг тишину разорвал зловещий вой бурятских трубачей. Это был сигнал — не поджигать крепость, а бросить все и бежать в свой стан. Заскрежетав зубами, Солобон проклинал старого князя Богдоя.
И Солобон и другие подпальщики уже успели в точности выполнить приказание: они отсчитали четвертое бревно стены снизу, ножами вырезали глубокие зарубки — знаки.
Подпалыцики поползли к стану.
Князь Богдой долго совещался с близкими и друзьями. Многие требовали немедля сжечь городок, раз и навсегда избавиться от лютого воеводы. Другие рассуждали иначе: «Один городок спалим — у русских других много». Богдой молчал — думал. Молчали и все остальные — тоже думали.
Поднялся старый бурят, седую косичку пощипал, хитро сощурился:
— В стаде бараны разные бывают — черные и белые… Русские люди тоже разные бывают…
Вокруг зашумели. Больше старик ничего не сказал. Князь Богдой вскинул пику — стало тихо. Голос у Богдоя звонкий, далеко слышно:
— Великан-гору не столкнешь: с русскими воевать — в пропасть прыгать! От монгольских ханов-разбойников наши юрты и скот, жен и детей не спасем побьют! Только русской силы боятся эти разбойники…
Молодой князь Хонодор горячился:
— Война! Крепость надо сжечь! Пепел по степи ветер разнесет — светло будет!
Богдой сурово топнул ногой, молодого задорного князя остановил:
— Бешеная собака кусает и своих и чужих. От злого воеводы всем худо, все плачут… Зачем из-за него на крепость огонь пускать! Забыли, сколько раз мы прятались за спину этой крепости? Забыли?
— Война! Побьем! — опять крикнул Хонодор, размахивая кривой саблей.
— Так кричит козленок, который отбился от своего стада! — рассердился Богдой и вскочил на коня.
За ним — все остальные.
На восходе солнца бурятский стан опустел.
Башенные дозорные сообщили воеводе:
— Враг скрылся, только головешки тлеют да помет конский валяется.
Старшина открыл малые ворота, огляделся. «Были и нет», — усмехнулся он. Увидев знаки на стене и оставленные подпальщиками смолье и солому для поджога, он побежал к воеводе.
— Подпалить норовили стены, батюшка воевода! Смолье бросили, убежали, знаки на стене бурятские вырезали…
— С нами бог! Врага побили!.. Возьми аманата да толмача, пусть знаки разгадают.
Толмач быстро вернулся.
— Ну? — нетерпеливо спросил воевода толмача.
— Нацарапано, батюшка воевода: «Были под самой стеной, но огонь не пустили — мир».
— Ишь ты, каковы! — стукнул об пол посохом воевода. — Снарядить казаков, самых лихих. Ночью отыскать бурятские юрты, бить нещадно. Скот, богатства, пленных доставить в городок. Я — государев слуга, всех воров выведу! Пусть помнят воеводскую руку!
Как ураган, налетели на бурятские юрты воеводские казаки. Жестокой расправы не ожидали буряты. Спешно собрались старшины родов и на глазах у родичей убили князя Богдоя, заподозрив его в коварной измене. И те, кто остался жив после казачьего налета, сложили свои пожитки, собрали по степи оставшийся скот и убежали в далекий Китай.
Вскоре ни одной бурятской юрты не могли отыскать воеводские казаки. Воевода ходил довольный, гладил широкую бороду, похвалялся:
— Вот я каков! Всех повоевал! Кто поперек меня — тому смерть от меня!
Только к вечеру успокоился воевода. На другой день встал рано, не выходил из своей светелки, а сидел там с писцом и строчил царям грамоту о своих победах.
Писец старательно вывел первые строчки грамоты — поименовал великих государей.
Воевода отошел к оконцу и долго смотрел на блеклое небо. Раздумье его прервал писец:
— Титул помечен, батюшка воевода…
Воевода сумрачно оглядел писца, левая бровь его дернулась:
— Ох, Алексашка, не в меру ты досаждаешь, языкаст да глуп! Каково писать великим государям, каков ум надобен!
— Превеликий ум, батюшка воевода…
— То-то, злодей! Пиши!
Воевода гордо вскинул голову, громко и самодовольно продиктовал:
— «…В нынешнем, великие государи, 1696 году бурятские воровские людишки учинили измену, пошли походом, осадили городок Иркутский, огнем грозились. Я, холоп ваш, ту измену в корень вывел: воровских бурят побил, юрты предал огню, скот и богатства их отобрал в вашу, великие государи, царскую казну. Какие остались из бурят в живых, те, похватав свои животы, бежали в Китайское царство…»
Воевода хотел приложить руку, взял перо, но с досадой его отбросил:
— Запамятовал я, Алексашка: добавь-ка в косую строчку.
Писец схватил перо.
— «Аманаты, великие государи, до единого перемерли. Велю казакам изловить новых…»
Гонцы повезли скорым ходом грамоту в царскую Москву.
Очистилась Ангара ото льда. Дули теплые ветры. Весеннее солнце сгоняло снег, на проталинах пробивалась трава. Иркутяне позабыли о ратных тревогах. По-прежнему через городок шли обозы и, пройдя Заморские ворота, скрывались за Синей горой. По-прежнему пестрела базарная площадь, полная народа. Жил городок мирно, тихо…
Только на воеводском дворе переполох.
Третий день не выходит воевода из приказной избы. Не ест, не пьет, никого к себе не пускает. Служилые людишки ходят на цыпочках, говорят шепотом, дверью боятся скрипнуть, каблуком стукнуть страшно.
Удивленный Артамошка несколько раз пытался выведать у кого-либо, что случилось, но на него шипели: «Тише, тише!..»