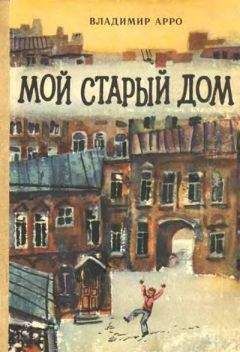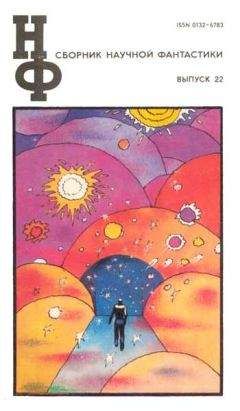Лёня запел:
— Бур-ря смеш-шала!..
И вдруг остановился как вкопанный. Чего он остановился? Может, увидел кого? Я в окно выглянул — нет, никого не увидел. Пел бы дальше.
Лёня откашлялся.
— Бур-ря смеш-шала!..
И опять дальше не пошёл. Ну, чего она смешала-то? Непонятно.
Я снова выглянул в окно и вдруг подумал: «Может быть, уже почтальон был?»
— Буря смешала землю с небом! — энергично пропел Лёня.
Так бы и сказал.
Кошки сегодня взбесились, чуют живую рыбу, мяучат, по двору бродят, как пьяные. Тётя Сима им рыбьи потроха вынесла, так они стремглав за нею помчались, — ну что за кошки такие! У нас одна кошка весною своих котят за шкирку таскала на второй этаж и выбрасывала из окна. Мы её отлупить хотели, котят отобрать, а нам тётя Сима сказала: не трогайте вы её, это она своих детей к жизни приучает, чтобы в любом случае, значит, — на четыре лапы.
Вот и ещё одна сковородка затрещала. Ничего, кошки, будете сыты! Когда ж это наш дом рыбу жарил, а кошек не накормил!
Эх, охота и мне рыбки с золотистой корочкой. Помяукать, что ли? Быть бы кошкой, жил бы где хотел.
Я говорю Михееву:
— Ну, Михеев, пойду почтовый ящик проверю, может, от бати чего есть?
— Ой, Саня, — говорит Михеев, — я бы с тобой тоже пошёл, но мне маму надо дождаться. Я после выйду, после!..
Пошёл бы и сейчас, если б хотел.
Почтальонша прошла уже, я по дырочкам вижу, они у всех белые, а в моём ящике дырочки всё ещё чёрные. Дверь тёти Симы слегка приоткрыта, она никогда её плотно не закрывает, чтобы кошкам свободно было ходить. Зайти, думаю, или не зайти? Очень уж рыбы хочется. И супу, и рыбы.
Нет, не зайду. Расспросы пойдут всякие, разговоры, а мне эти расспросы и разговоры сейчас — самое вредное дело.
Лёня петь кончил, зато Сухожилова с Новожиловой опять во дворе появились. Здрасте! Давно не виделись.
Асфальт расчертили мелом, прыгают и кричат своё занудство:
Опа, опа,
Азия — Европа,
Индия — Китай!
Шура, вылетай!
Шура, вылетай! Зина, вылетай! Шура, вылетай! Зина, вылетай! И как им не надоест часами долдонить одно и то же. Я в них камешком бросился, они скривились, ненадолго замолчали. Но так просто их не отучить. Их уж и водой сверху обливали, и лбами сталкивали, но это ни к чему не привело. Страсть как мне на нервы действуют Сухожилова с Новожиловой. Прямо все жилы тянут.
Вдруг мне по глазам ударил солнечный зайчик. Я ещё не разожмурился, а уже понял — это Тентелев! Явился, голубчик!
У Тентелева привычка: прежде чем выйти, всех ослепить солнечными зайчиками. Пометить, значит. Чтобы все на него внимание обратили и ждали его выхода. Тоже мне японский император!
Тентелев почти всегда загадочно улыбается. Он и говорить любит загадками. «Растение нуждается в солнечном свете и воде», — говорит, например, Тентелев. «Что?» — «Ничего, проехали!» И собеседник ещё долго мучается загадкой: что же имел в виду Тентелев?
Я никогда не даю себя поймать на эту удочку. Пусть он кого хочет ловит, только не меня.
Тентелев говорит мне из окна:
— Чуден Днепр в любую погоду.
А я отвечаю:
— Всем хорошим во мне я обязан книге.
Тентелев спрашивает:
— Что?..
Ага, попался, попался! Вон как рожа скривилась!
Я говорю:
— Потолковать надо, Тентелев, выходи!
— Не имею физической возможности, — говорит Тентелев. — Ты сам ко мне заходи, здесь потолкуем.
— Ну уж нет, — говорю. — Слишком много чести.
— А я, — говорит, — не могу.
А я говорю:
— Смоги.
— Пейте томатный сок, — говорит Тентелев.
А я говорю:
— Берегись юза!
Меня так быстро не поймаешь. Тентелев меня терпеть не может. Его бесит мой авторитет. Он всё только и ищет способы, чтобы свой авторитет повысить, а мой унизить.
Один раз при свидетелях он поставил на стол трёхлитровую банку воды и предложил мне с ним пить эту воду, кто сколько сможет. Я выпил четыре стакана, а Тентелев пять, но авторитета у меня не убавилось, а к нему не прибавилось.
А в другой раз мы на большой скорости спускались по лестнице с пятого этажа. Судили нас Дубарев и Михеев, они засекали время по секундной стрелке. Я так быстро мчался, что чуть все ноги себе не переломал. Но быстрее всё-таки спустился Тентелев. Ребята за меня болели, а за него не болели, так что Тентелев всё равно остался с носом.
Каких только он не придумывал соревнований, чтобы к себе внимание привлечь: мы с ним бегали наперегонки, кидали мячики, держали руки над горящими спичками, ели горчицу. И всякий раз он выходил победителем. Но это всё равно ничего не меняло. Меня ребята уважали, а его нет. И выходило, что я был непобедим.
Это его и бесит. Он рад, что я переехал, но даже после этого его не стали уважать, как меня. Вот он мне и подстроил. Эх, берегись, Тентелев!
Я говорю:
— Морально решил меня уничтожить, да, Тентелев?
А он говорит:
— Крестики и нолики — детская игра.
— Выходи, чего же ты. Выясним, какая игра детская, а какая недетская.
Но Тентелев вдруг отошёл от окна. Чего он отошёл-то?
Я подождал ещё немного, но вдруг и сам как побегу! Ну я и рванул со двора! Я стрелой пролетел и вкатился в первую попавшуюся парадную. Если бы Тентелев это видел, он очень бы удивился. Он бы подумал, что меня пчела ужалила.
Но это просто с улицы во двор вошла Поля.
А мне с ней не хотелось встречаться. Пока я не доказал, что это не я чужую лодку увёл, мне с ней встречаться нечего. Лодку ещё что, а ведь выходило, что я обманул, дал свой старый адрес. Поля мне такого не простит, она не прощает трусости.
Когда я ехал сюда, я, между прочим, думал: вот встречу Полю. Теперь это отпадает. Лучше уж ей на глаза не попадаться. Ведь не начнёшь же оправдываться. Она так посмотрит, что дрожь проймёт. Сыпью покроешься. Хромать на обе ноги начнёшь. Нет, лучше не стоит.
Поля у нас настоящая пионерка. Вообще-то у нас много хороших пионеров. Но на Полю даже издалека взглянешь, сразу поймёшь, что она настоящая. Если человек в беде, она всё для него сделает, что хочешь отдаст. Она сама себе назначает тимуровские задания. То на перекрёстке дежурит, чтобы детей и стариков переводить. То с детским садом в парке играет. И никому, конечно, об этом не говорит. Я потому знаю, что люблю за нею издалека следить.
С ней никто из мальчишек не задирается, как, например, с Куркиной. Попробуй задерись, все наши ребята стеной встанут. А в первую очередь дело будешь иметь со мной.
Поля с виду тихая, молчаливая. Она очень скромная. Она даже отвечать старается похуже, чтобы не быть первой, глаза всем не мозолить.
Вот идёт Поля по двору, по всем этим «классам», «очагам», «чирам», а я смотрю на неё сверху, из чужой парадной. И думаю: «Эх, Поля!..»
Она несёт авоську с продуктами. Пока мамы нет, Поля всегда ходит по магазинам. На ней всё хозяйство.
Один раз после школы я как будто случайно встретил её в овощном магазине. Я сказал: «Бери больше картошки, донесу». И она согласилась. Я ей донёс картошку до самой двери. Она открыла дверь и сказала: «Заходи».
Конечно, я зашёл. Я сказал: «Хочешь, я тебе картошки начищу?» И она согласилась.
Мы сидели в кухне на низеньких табуретках и чистили картошку. По радио передавали танцы композитора Брамса. Мы кидали очищенную картошку в кастрюлю с водой. Когда картошина плюхалась в воду, во все стороны летели брызги. Я очень торопился чистить, чтобы бросить свою картошину одновременно с Полей. Но у неё быстрей получалось. Она ещё успевала подхватывать мои картошины и выковыривать из них «глазки».
Мы посмеивались и слушали венгерские танцы композитора Брамса. Потом Поля опомнилась. Она сказала: «Ой, а мне и картошки-то столько не надо. Что же с ней теперь делать?» Я говорю: «Хочешь — съем?» Зачем я это сказал, ведь Поля и не приглашала меня есть картошку. «Ну, это ты зря, — сказала она, — тебе и за три дня не съесть такую уйму картошки». — «На спор — съем за полчаса!» — «С маслом?» — «Да хоть с маслом!» А я для Поли мог съесть эту картошку хоть с рыбьим жиром, хоть с сахарным песком. «Ладно, посмотрим, — сказала Поля, — сейчас она у нас быстро сварится».
Так бы мы и ели картошку с маслом, но вдруг мне вздумалось спросить у Поли, согласна ли она со мной дружить.
Поля не сразу ответила. Она вымыла картошку, налила в кастрюлю свежую воду и поставила её на огонь.
А я всё ждал. Во дурак, что, и так непонятно?
Поля сказала: «Саня, ты очень хороший мальчик, ты сильный, у тебя есть воля и характер, короче говоря, побольше бы таких мальчиков в нашем классе».
Я сразу понял, что не будет она дружить со мной, раз побольше бы.
Поля сказала: «А моя дружба нужнее другим людям». — «Кому это?» — спросил я. «Униженным и оскорблённым». — «Кому, кому?» — я сначала даже не понял. «Есть такие люди, — сказала Поля, — униженные и оскорблённые». — «Например?» — спросил я. «Например, один мальчик». — «Из нашего класса?» — «Нет, не из класса. Из нашего двора. У него нет ни характера, ни воли. Он слабый. Его никто не любит. Может быть, я сумею поставить его на ноги».