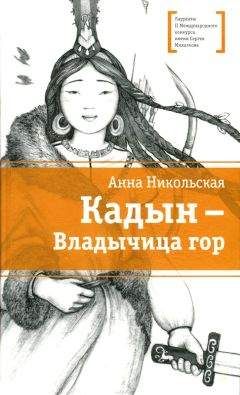Я не узнавала своей Очи. Во всем, что делала или говорила она в те дни, была странная, скрытая, незнакомая мне до того сила. Ничего не происходило, но я чуяла, что вносит она раздор в дом Антулы, как холодный ветер кружит под крышей.
День ото дня все тягостней становились для меня эти вечера. Думала я, что Очи отомстить хочет Зонару, но она не делала ничего, они даже не говорили, лишь иногда бросали друг на другая странные, жадные взгляды — и все оставалось по-прежнему.
А потом отец принес красного оленя, обещанного Луноликой. Тушу у порога сбросил и вышел. Очи на меня с вопросом взглянула. Я сказала:
— В чертог дев поеду сегодня. Скажи братьям, что не буду у них.
Очи снова вопросительно посмотрела, но я сказала:
— Одна поеду. Ты оставайся.
Шубу надела, сапоги обула, подошла к туше, хотела ее поднять, но не смогла даже сдвинуть. Большого, жирного оленя отец выбрал, не поскупился для Луноликой. Еле выволокла его на снег. Побежала в закуту, коня взнуздала, прискакала к порогу, хотела на коня тушу втащить — но куда там! Спрыгнула, снизу подкинуть пытаюсь — только в глазах темнеет с натуги.
Тогда придумала я, как иначе мне довезти подарок до дев: взяла лыжи, с которыми в лес пешком зимой ходим, привязала накрепко к ним оленя, конец веревки к седлу прикрутила. Неудобно так везти, несколько раз спрыгивала, поправляла тушу.
Ехала я и чуяла, как страх во мне растет. Вспомнились мне и Камкины наставления, и все дни, что с нашего возвращения прошли, я сочла — получилось, что уже пол-луны живем мы праздно в стане, похваляясь своей долей, но ничего не делая.
Ехала шагом, но под горой снег глубокий пошел, троп совсем не стало — никто не ходил к девам в чертог, не спускались и они в стан. Спрыгнула я с коня — по пояс в снегу утопла, но принялась за уздцы вытягивать его короткой дорогой наверх. Как выбрались, вскочила и — йерра! йерра! — рысцой поскакала к чертогу.
На диком, неприветливом, ветром продутом месте забор дев стоял. Тихо вокруг было, тихо и внутри. От ворот и в сторону снег утоптан, до земли сбит конскими копытами — тропа потянулась выше, за дом и на гору, верно, к выпасу. У ворот осадила я своего разгоряченного конька. Думала звать кого-то, но тронула дверь — и легко отъехала она, не запертая изнутри.
Мерзлая земля со снегом и навозом взрыта была комьями. Большой дом, в семь углов, в центре стоял, малые, в пять, — поодаль. Как насмешка вспомнились мне слова Камки про богатство Луноликой матери дев. Войлок и правда белый на большом доме был, тонкий и дорогой когда-то, но давно его не меняли, местами он разлезся и потемнел. Другой дом был крыт войлоком, из разных кусков сшитым. Третий же берестой белой покрыт был. И никаких фигурок не было на крышах — странно мне это было, как пустая шапка на голове взрослого воина. Коновязь, правда, большая была, золоченная сверху. Но на всем дворе никого, и дым не шел из домов — пусто в чертоге было. И тихо так, что голос подать было боязно.
Спрыгнула я с конька, огляделась и не знала, что делать. В дом без хозяев нельзя заходить, хозяйских духов прогневаешь. Так я стояла, как вдруг медленно-медленно стали приоткрываться ворота, пропуская во двор сгорбленную старуху. Тучную, в старой, потертой шубе, на голове — старческая шапка из черной овцы. И эта древняя бабка тащила два больших ведра с водой. Одно пронесет, поставит — второе несет. Глаза ее, верно, видели плохо: прямо на меня глядя, не видела меня она. И лишь когда конь мой пошевелился, заметила.
— Здесь кто? — спросила, шапку со лба приподняв и пот рукавом отирая.
— Это я, старушенька, я! — отвечала я громко на случай, если она плохо слышит. Эта старая женщина, давно отдавшая себя духам, вызывала во мне и неприязнь, и трепет. В стане таких древних людей не встречала я. Глядела на нее и пыталась перебороть свое отвращение.
— Кто? Кто? — стала спрашивать она и оглядываться, как если бы вокруг было много народа.
— Я, Ал-Аштара, царская дочь, Луноликой матери посвященная дева! — крикнула я. — Я принесла дар живущим здесь сестрам. Как мне найти их?
— А, тебе девочки мои нужны? — поняла она. — Нет их, нет.
Она приподняла ведро и собралась тащить его, но оступилась и опрокинула. Вся вода разлилась по грязному двору.
— Те, я старая колода! — запричитала она и взялась за второе ведро. Я поняла, что сейчас с ним случится то же самое, подбежала к ней и сказала:
— Дай я, старушенька.
Она тут же отпустила ведро, и, не схвати я его вовремя, непременно и из него ухнула бы вода нам под ноги. Но я успела его взять, и спина моя тут же прогнулась: не легче оленя показалось мне это ведро.
— Куда, старушенька? — с натугой проговорила я.
— Недалеко, сюда вот, сюда. — Она поковыляла по двору. Я поплелась следом, то и дело спрашивая:
— Далеко еще?
— Что ты, близко, — отвечала она.
Мы обогнули дом, дошли до дальнего забора, где оказался деревянный колодец.
— Лей, — сказала старуха.
— В колодец? — не поняла я.
— Да, в колодец, да, — равнодушно кивнула она.
Я ухнула всю воду вниз. Мне показалось, что ни капли не долетело до дна, все растеклось по обледенелым стенкам сруба.
Только я выпрямилась и развела плечи, как старуха выхватила у меня ведро.
— Давай, некогда мне отдыхать.
Она поковыляла к воротам, я — за ней.
— А когда девы вернутся?
— Ясно: до первых алых перьев не ждать.
Она говорила о закате. У нас тогда только очень старые люди говорили так. Кто помоложе называли и закат, и восход рогами солнцерога-оленя.
— А ты что здесь делаешь?
— Разве не видишь? Я им воду таскаю.
— Но зачем ее в колодец лить?
— Уходит из него зимой вся вода, вот я за день натаскаю, а девы вернутся, колодец полнехонький, прямо из него черпай.
— Что ж сами они? Зачем ты, старая, им таскаешь? Тебе в шубу кутаться, у огня сидя, сама уже, как мать Табити, древняя.
— А ты думаешь, я многим девочек моих старше? — спросила тут она и остановилась. Я чуть на нее не наскочила. — Думаешь, они молодые все, такие, как ты?
Я оторопела. На меня смотрела большая старуха, древняя, как старые лиственницы, которые уже изнутри все сгнили, одна кора и осталась. Она не в силах была разогнуть спину, глядела снизу вверх, глаз ее я не видела из-под мохнатой шапки, но лицо было коричневым, как кора, и так же изъеденное морщинами. Рот ее был как пропасть, ноги кривы, а руки схватило болезнью, она держала их, подгибая. И это старое, умирающее дерево говорило мне, что ненамного старше Луноликой матери дев, вечно юных дев-воинов! Я не верила ей и застыла в оторопи.
— Те, замерзла, что ли? — спросила она. — Ты кто такая?
— Ал-Аштара, дочь царя, Луноликой матери посвященная в этом году дева, — проговорила я слабо, будто во сне.
— Те? — удивилась она. — А и не скажешь: ни чекана у тебя, ни лука, ни меча боевого. Слабоватый ты воин!
Я смутилась. Хотела ей сказать, что еще не прошла посвящения, но она уже развернулась и пошла дальше, ворчливо говоря:
— Все вы думаете, что они тут вечные, ваши девы. Те! И что они не стареют. А все стареет и умирает, дева, все. Вот и они.
— Но Камка нам говорила… — начала я, но замолчала, услышав, какой жалкий у меня, растерянный голос.
— А, жива еще старая Камка? — сказала старуха. — Она знает, что на посвящении говорить, чтобы девочкам легче обеты давались. Да жизнь-то все равно — жизнь, вот что, царевна.
Мы дошли до ворот, она наклонилась ко второму ведру, брошенному там.
— А как мне их увидеть? — спросила я почти в отчаянье.
— Дев-то? Да придут к первым перьям, придут. Я только вот… — Но она не успела сказать, вдруг застонала, бросила ведра и схватилась за поясницу. — А! А! — запричитала. — Не разогнусь, не разогнусь!
Мне стало страшно: вдруг умрет, — я подскочила, желая помочь, и она вцепилась в меня намертво, чуть не опрокинула. Мне оставалось только довести ее до дому и усадить на лежащие у дверей поленья.
— Как же так я, как же так? И без воды не оставить мне девочек! — причитала она без умолку, слезливо и жалко. Я поняла, что у меня другого пути нет.
— Давай я натаскаю, старая.
— А сможешь ли? — с недоверием посмотрела она на меня.
Я вспыхнула.
— Я крепкий воин! — сказала гневно, хотела прибавить, что уж точно сильнее такого гнилого тюфяка, как она, но сдержалась.
— Хорошо. Показать тебе не смогу, сама найдешь: из ворот вдоль забора — налево, а там тропа будет все вниз, к реке, ее-то услышишь.
— Хорошо, — кивнула я, подошла к коньку, хотела отвязать груз и верхом ехать, но бабка остановила:
— Э, даже не думай, переломаешь коню ноги, такой бурелом там. Иди уже, а то до алых перьев не управишься.
Мне оставалось только послушаться и пойти. Вдоль забора шла тропа, которая уходила в лес и спускалась с холма. Была она узкой, шла напрямик, через лес, и летом, верно, не было тут тропы вовсе, только зимой протаптывали — прямо поверх кустов и поваленных деревьев. С конем и правда нечего было бы делать там.