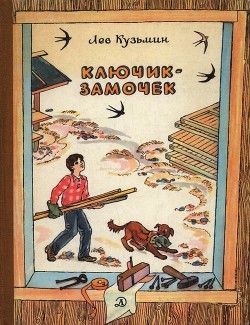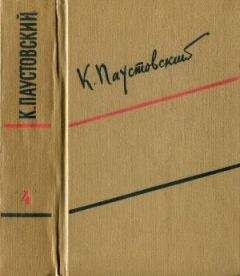— Сделай! — оживился Егорушка, поднес к губам воображаемую дудочку и, сидя на бочке, заприговаривал: — Тир-ли, тир-ли, тир-ли!
Мальчики засмеялись. А Зорька топала да топала по узкой дороге, и вот корабельные сосны кончились, дорога сбежала по некрутому склону вниз и пошла по долинке, заросшей ивняком и ольховником.
Мартовскому солнцу тут раздолье. Ветер в долинку почти не залетает, тени от кустов прозрачны, и вешнее тепло здесь проникает всюду. Сугробы во многих местах уже протаяли до болотных кочек, а на ивовом прутье надулись глянцевые почки. Они вот-вот лопнут, и тогда по тонким веткам разбегутся, как цыплята, ярко-желтые пушистые соцветия.
Егорушка напоминает:
— Митя, прутик не забудь сломить.
— Не забуду, — говорит Митя, останавливает лошадь и спрыгивает в снег. Он топчется под ивой, сгибает упругую ветку. Митины следы сразу темнеют, набухают водой.
— Надо бы нам надеть кирзовые сапоги. Промокнем, — думает вслух Саша. А Митя сламывает прут, внимательно осматривает его и опять залезает в сани.
5
Когда подъехали к ручью, то увидели, что за прошедшие сутки там ничего не изменилось. На широко раздавшемся в этом месте ручье, на льду, по-прежнему лежит пронзительно-яркий снеговой покров, по снегу тянется накатанный санями подъезд к проруби; а с того берега от густых елиников к проруби-оконцу протоптана узкая тропа. Ее пробили за зиму лоси, они ходят сюда на водопой почти каждый день.
Мальчики, как наказывал Филатыч, оставили Зорьку на берегу, взяли ведра, побежали к оконцу. Здешний берег был низкий, почти вровень со льдом, и они сразу обнаружили, что самая кромка льда и снег на ней — мокрые. Влажная полоска растянулась в обе стороны, но нешироко, и ее перескочил даже Егорушка.
Вокруг проруби снег был тоже сырой, желтый. А в самом отверстии вода, как в ледяном колодце, поднялась до краев, и вот это было уже большой новостью. Раньше вода стояла гораздо ниже.
— Я говорил, промочим валенки, — опять сказал Саша.
— Ничего. Приедем, высушим. Ты, Егорушка, в мокрое не лезь, — сказал Митя и далеко перегнулся, поддел ведром красноватую, с болотным запахом воду.
— Смотри-ка, еще вчера была чистая, а сегодня уже нет, — удивился Егорушка.
— Торфяники оттаивают, — догадался Митя и почерпнул второе ведро. Он передал его Саше; мальчики, тяжело нагибаясь, потащили ведра к берегу. Егорушка, размахивая длинными рукавами, засеменил сзади.
Мокрую полоску у берега перепрыгнуть с полными ведрами уже не удалось, через нее прошлепали напрямую. Потом выбрались к бочке и опрокинули ведра над широкой прорезью. Вода с шумом ухнула в темное, круглое нутро. Саша всунул туда голову, посмотрел:
— Едва донышко скрыло, охо-хо…
— Первый раз наливаешь, что ли? — засмеялся Митя и побежал обратно.
Сходили они так, от берега к проруби и от проруби к берегу, пять раз. Все уплескались, в сырых валенках стало хлюпать, воды в бочку принесли десять ведер, а надо было — пятьдесят.
Саша опять заглянул в прорезь, опять вздохнул:
— Так до вечера будем таскать!
Митя отпыхнулся, спросил:
— А что делать?
— Давай подгоним Зорьку к самой проруби, как всегда.
— Что ты! Филатыч не велел…
— Не велел, не велел, — недовольным голосом передразнил Саша. — Он не велел, если лед слабый, а лед — не слабый… Вон сколько раз ходили туда-сюда, а он даже и не шелохнулся.
— Это под нами не шелохнулся, а под лошадью, может, и шелохнется. Что тогда?
— Пустяки! — сказал Саша. — Глянь!
Он перепрыгнул мокрую закраину и стал изо всех сил подскакивать на ледовой, зимней дороге. Снег, уплесканный из ведер, просел под ним, но дальше Саша не проваливался.
— Слышишь? Гудит даже! Во, какая крепчина! Лед здесь, наверное, намерз до самого дна: тут мелко. Поехали!
— Поехали, — махнул рукой Митя. Ему и самому не хотелось таскать ведра с водой до позднего вечера.
Но Зорька на лед не пошла. Она остановилась у самой закраины, неудобно налегая на хомут, опустила вниз длинную морду, втянула темными ноздрями запах талого снега, всхрапнула и резко попятилась.
— Боится… Не пойдет, — сказал Митя и бросил вожжи в сани.
— А ты ее за уздцы, за уздцы! Она за тобой пойдет. Она тебя слушается, — посоветовал Саша.
Егорушка тоже поддакнул:
— Она, Митя, тебя всегда слушается. Она за тобой пойдет.
Митя взял Зорьку под уздцы и, подражая Филатычу, заприговаривал:
— Ну что, Зоренька? Ну что, матушка? Ну что боисся-то? Пойдем, голубонька моя, пойдем…
И Зорька пошла.
Саша закричал по-американски: «О’кей!», Егорушка засуетился по берегу, замахал руками: «Пошла, пошла!», а Митя уже перескочил мокрую закраину и, пятясь и отставив свой туго обтянутый серыми штанцами задок, тянул Зорьку за собою. Он не давал ей опустить голову, глянуть вниз, и Зорька вдруг вся как-то странно, по-собачьи, присела, ржанула и вот мощным прыжком ринулась вперед.
Митя успел увидеть летящую на него лошадиную мускулистую грудь, край хомута, обтянутый ременным гужом торец оглобли, но тут его ударило прямо в лоб, он полетел кубарем, прочертил щекой по зернистому снегу, и в глазах у Мити потемнело.
Он услышал рядом такой треск, будто весь белый свет начал колоться на куски и падать вниз, рушиться. Где-то у самых ног страшно зашумела вода, жутко заржала лошадь.
«Тонем!» — подумал Митя и забился, забарахтался. Но голые пальцы хватали не темную воду, а холодный мокрый снег.
Он стиснул сочащийся ком, присунул к лицу — в глазах стало проясняться. Митя медленно, шатаясь, поднялся.
Белый свет оставался белым. По-прежнему светило солнце. Но в трех шагах от Мити, у самого берега, зиял бурый, бурлящий пролом, и там в ледяном крошеве билась Зорька.
Вода, перемешанная с торфяной грязью, летела во все стороны, она достигала Зорьке выше груди. Зорька старалась подняться на дыбы, вскинуть передние ноги в шипастых подковах на кромку льда, но наклоненные с берега сани с бочкой пихали ее оглоблями вперед, прижимали к ледяной кромке, и она все никак не могла выпростать ноги из-под этой кромки, лишь билась об нее хомутом, грудью, коленями, обрезалась до крови.
На берегу заполошно бегали Саша с Егорушкой. Они то хватались за сани и тянули их изо всех сил назад, то тянуть отступались и бежали смотреть на рвущуюся из оглобель Зорьку, а потом опять принимались тянуть сани, да силенок у них для этого не хватало.
Митя стоял на захлестанном грязью снегу, на льду, и с ужасом видел, что лошадь тоже смотрит на него.
Метаться она перестала, только вся вздрагивала. Вода шла вокруг ее шеи крутыми воронками, и Зорька тянула к Мите мокрую морду, и огромные, от страха косящие глаза ее, как показалось Мите, были в слезах.
И тут Митя заплакал сам. И, шлепая по мокрому снегу, побежал на берег.
— Спятить надо Зорьку, спятить! — захлебываясь от слез и горя, крикнул он Саше с Егорушкой, зашарил в санях, стал искать вожжи, чтобы спятить Зорьку: заставить ее саму вытолкнуть тяжелые сани с бочкой на берег.
Но вожжей в санях не было. Они давно соскользнули в воду, и Зорька замяла, затоптала их под себя.
Митя повалился лицом на бочку, на руки:
— Ой, что делать-то-о? Ой, беги, Сашка, к Филатычу-у!
— Что ты! — испуганно сказал Саша. — Лучше давай сами как-нибудь.
— Не сможем сами, не сможем… Давай, беги!
А Саша затоптался. Нести к Филатычу свою повинную голову да еще в одиночку ему вдруг стало страшно, и он сказал:
— Пусть Егорушка бежит. Он на ногу легкий, в два счета домчится.
— Точно! В два счета домчусь! — пискнул Егорушка и, обрадованный тем, что хоть как-то да может в беде помочь, припустил по дороге к интернату.
Митя поднял голову, посмотрел вслед Егорушке, вздохнул и побрел на лед.
Темная вода по-прежнему бурлила вокруг лошади. Наверху виднелась только прядающая ушами Зорькина голова под дугой да широкая мокрая спина со сбитым на бок седелком. Зорька теперь даже и не дрожала, а ее всю било и и трясло. Даже нижняя губа у нее ходила ходуном, обнажая желтые, сильно стертые зубы.