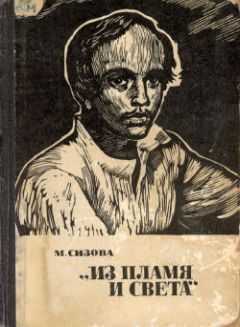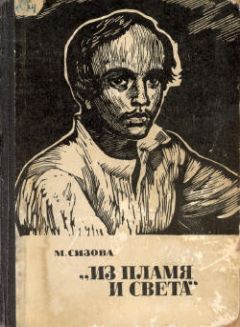Но «начальство», сбившееся с ног в ожидании торжественного дня, не сразу поняв, в чем дело, только крикнуло грозно:
— Почему до сих пор не вывезли из города?
Следствием распоряжений «начальства» было то, что в тот же вечер в маленький домик явились оба урядника в сопровождении тучного хозяина дома и, заперев выходивший на улицу балкон, объявили сидевшим за скромным ужином «каторжанам», что во время пребывания в городе государя всем им строго-настрого запрещается выходить из дому.
«Каторжане» выслушали это распоряжение с полным спокойствием и молча закончили ужин.
На другой день к вечеру громкие раскаты «ура», колокольный звон и пушечная пальба, от которой сотрясались стены маленького домика, возвестили о том, что царский поезд въехал в город и Ставрополь сейчас узрит своего монарха.
Нарастающий гул приветствий доносился уже с ближней улицы. Николай Первый приближался к белому домику. Тогда его обитатели, все шесть человек, поднялись в мезонин, столпились у маленького окошка, которое урядник забыл запереть, и один из них распахнул его половинки.
Внизу проходили воинские части, оркестр и опять воинские части. Сквозь ветки высоких тополей было видно, как верхом на великолепном арабском коне медленно ехал император в сопровождении блистательной свиты.
Тогда один из этих людей в солдатских шинелях поднял бокал с красным как кровь вином и крикнул вслед медленно проезжавшей величественной фигуре императора:
— Ave caesar! Morituri te salutant![42]
Но за громким «ура», колокольным звоном и пушечной пальбой этот одинокий голос замер, не услышанный никем.
Широкий и пенистый ручей стекал с гор и шумел у самой стены духана. Этот однообразный, не смолкающий ни днем, ни ночью шум сливался с шелестом высоких тополей, окружавших духан, неподвижных в безветрии и взволнованно шептавших о чем-то своими бесчисленными листьями, когда пролетал мимо горный ветер, едва касаясь веток свежим дыханием.
На скамье около духана, над самым ручьем, задумчиво сидел человек в простой солдатской шинели, неопределенного на первый взгляд возраста. На его лице не было морщин, и в волосах не поблескивали серебряные нити. Но согнувшаяся спина и вся фигура — от опущенной головы до руки, устало брошенной вдоль тела, — говорили о том, что жизнь обошлась с ним не очень-то ласково и что в этом еще молодом человеке живет уже немолодая, умудренная жизненным опытом и порядком уставшая душа.
Он сидел, не шевелясь, и слушал, как, журча и поворачивая мелкие камушки, бежит у его ног бурливый ручей, и, видно, забыл о том, что на коленях у него лежит небольшая тетрадь с открытой и полуисписанной страницей. Наконец он взял карандаш и, раздумывая, как бы не решаясь, добавил к написанному две строки. И только когда, оторвавшись от дум, он поднял глаза, стало ясно, что он еще молод и полон доверия к жизни и к людям: так ясен и чист был открытый взгляд его голубых глаз.
Он поднял их, потому что услыхал лошадиный бег, стук копыт, громкий голос хозяина с противоположной стороны духана и чей-то молодой, ответивший ему голос, и понял, что всадник, соскочивший с коня, сделал остановку в том же духане.
Через несколько минут он увидел сначала чью-то четкую тень, упавшую на землю, уже освещенную мягкими вечерними лучами заходящего солнца, а потом и человека в военной форме. К самому краю оврага подошел, по-видимому, тот самый всадник, который только что говорил с хозяином. Он посмотрел вниз, на ручей, потом вверх, на вершину высокого тополя, и, прислонившись, достал небольшую записную книжку и, покусывая карандаш, в раздумье повторив шепотом какие-то слова, занес несколько коротких строчек на ее чистую страницу.
…помню я, как сон,
Твои кафе́дры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О боге, о вселенной и о том…
— Конечно, так будет лучше, — словно про себя, сказал Лермонтов.
Когда он снова задумался и опять начал покусывать свой карандаш, сидевший на скамье человек негромко произнес:
— Мы с вами, кажется, занимаемся одним и тем же делом?
Лермонтов обернулся и посмотрел на человека, сидевшего на скамейке.
— Вы думаете? — спросил он. — Впрочем, это вполне возможно. Я не знаю, чем занимаетесь вы, а я поправлял сейчас свои старые стихи, которые почему-то пришли мне в голову по дороге сюда.
— Что же считаете вы своим настоящим делом: службу военную, ибо вы, насколько я могу понять, прапорщик драгунского полка, или служение музам?
Молодой прапорщик печально посмотрел на быстро бегущую воду и в раздумье сказал:
— Вы знаете, я иногда даже самому себе с трудом могу ответить на этот вопрос. Но чувствую все же, что высокое назначение поэта могло бы быть моим назначением, если бы…
— Если бы? — повторил сидевший перед ним человек.
— Если бы я этого был достоин, — закончил твердо молодой прапорщик, с удивлением подумав, что он, пожалуй, впервые в своей жизни высказал другому человеку, да еще совсем незнакомому, ту глубоко скрытую от всех мысль и тайную надежду, в которой он редко признавался и самому себе.
— Вы правы, — подтвердил незнакомец. — Назначение поэта, быть может, самое высокое из тех, которые даются человеку, и сознавать это — значит до некоторой степени уже быть его достойным.
— Вы в самом деле так думаете? — быстро спросил Лермонтов.
— Я глубоко убежден в этом.
Молодой прапорщик пристально всматривался в нового знакомого, вернувшегося к своему занятию.
Потом он сделал шаг к нему и голосом, в котором слышно было внезапное и глубокое волнение, тихо спросил:
— Виноват, не направляетесь ли вы в Караагач, в Кахетию?
— Вы угадали, — кивнул головой человек в солдатской шинели. — Там, за домом, ждет моя тележка, в которой по обыкновению спит мой провожатый — казак Тверетинов. Я еду именно в Караагач, в Нижегородский полк.
— Простите меня еще раз, — сказал прапорщик, снимая фуражку и открывая прекрасной формы благородный лоб и темные волосы со светлой прядью надо лбом, — но вы… вы не Одоевский?..
— Да, — ответил с легким удивлением сидевший на скамье человек, — я — Александр Одоевский. Прошу прощения, я хочу знать, кто вы?
— Мое имя вам, вероятно, ничего не скажет. Я — Лермонтов и попал на Кавказ за стихи, которые правительству угодно было назвать непозволительными.
* * *
Последний луч погас на верхушках деревьев, и в быстро темневшем небе уже проступали первые звезды. А двое проезжих все еще сидели рядом на скамейке и разговаривали с таким увлечением, что не обратили никакого внимания на старого духанщика, уже второй раз приходившего сообщить им, что ужин сейчас будет готов.
Одоевский всматривался в потемневшую горную цепь.
— Когда встречаются люди, объединенные той глубочайшей связью, которая создается только родством мыслей, чувств и надежд, они узнают друг друга с первых слов. Так и мы с вами, не правда ли? — сказал он.
— О да!..
Лермонтов глубоко вздохнул и с наслаждением подставил лицо вечернему ветру.
— Однако, я слышу, хозяин опять зовет нас ужинать, — сказал Одоевский, вставая. — Здесь дают неплохой шашлык и хорошее молодое вино. Пойдемте!
Он крепко пожал Лермонтову руку и вошел в духан.
После ужина они проговорили всю ночь, сидя на скамейке над пенистым ручьем, и рано утром продолжали путь уже вместе.
Как хорошо было, добравшись к ночи до какого-нибудь заезжего двора или духана, выйти, наконец, из кибитки и устроиться где-нибудь на ковре, перед камельком, со стаканом молодого виноградного вина! Вино быстро согревало, духанщик курил в углу, а два путешественника то молча смотрели на огонек, то читали друг другу стихи, то вспоминали прежние беды и прежнее счастье. Они оба были моложе годами, чем душой, оба были поэты, и оба благоговейно любили каждую строчку Пушкина. И в первые же дни дружбы, перейдя на «ты», могли часами говорить о поэзии и вспоминать пушкинские стихи.
— Никогда мне не забыть, — сказал как-то Одоевский, — каким светлым праздником был для нас тот день, когда мы получили с трудом переправленное к нам пушкинское «Послание в Сибирь»! Своих стихов я ведь почти никогда не записываю, но мой ответ Пушкину записал и спрятал и вместе с его «Посланием» всегда вожу с собой.
Он достал небольшую тетрадь в самодельной обложке.
— Слушай:
Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя, —
И православный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы,
И с нею грянем на царей, —
И радостно вздохнут народы.
Оба долго молчали.