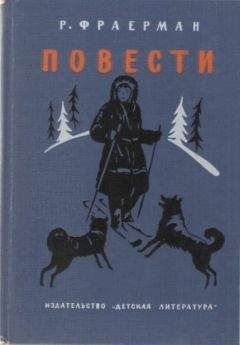— Вы подумайте, — продолжала она, — одни пятерки! И никто, конечно, не верит Ивану Сергеевичу. Не верит директор наш Надежда Федоровна, не верит и Пипин Короткий и жалуется, конечно, в роно. И верит только одна Анна Ивановна, которая знает нас лучше всех. И вдруг — бац! — комиссия от Наркомпроса: «У вас в десятом классе всем прибавляют отметки, позвольте проверить знания ваших учениц по истории…» — «Ага! Пожалуйста, проверить так проверить! Пожалуйте в класс». Приходит одна комиссия, приходит другая… Вызывают Лиду Костюхину. Мы, конечно, никто не подсказываем. И — ура! — она получает пятерку. Потом я получаю пятерку. Потом Вера Сизова получает пятерку, потом…
Анка обвела своим блестящим взглядом всех, всех назвала по имени и всем поставила пятерку, а о Гале и говорить было нечего.
Взглянув на нее, Анка только подняла руку над головой, что было у нее всегда знаком величайшего восторга.
— Потом, — закончила она, — потом все видят, как мы его любим, потому что кого же другого мы будем так сильно любить, как не того, кто так долго сражался за нас?!
Она замолчала.
И хотя слова ее были похожи на лепет и вела она себя, как ребенок, но все, кто слушал ее, были тронуты ее волнением.
И Лида Костюхина крикнула:
— Вот вам честное слово даю всему классу: по истории у меня будет пятерка в годовой! Не будь я Лидой Костюхиной.
— Да, да, не будь, пожалуйста, Лидой Костюхиной, — сказала Нина Белова своим трезвым голосом, — и не получи ты, ради бога, у Ивана Сергеевича через неделю двойку. Мы тебя очень просим. И может быть, хоть это сделает его счастливым. Как вы думаете?
Все думали, что это будет так, и все заговорили разом.
Только одна Галя молчала, и было неизвестно, о чем она думает.
— Но как нам сделать, — сказала Анка, — чтобы он так часто не отворачивался от нас к окну, чтобы ему не было больно за свои раны? Вот чего я не знаю, потому что я глупа: мне чаще хочется смеяться, чем плакать.
— И я такая, — сказала Вера Сизова. — Я всегда таращу глаза. Меня даже мама за это ругает. Надо, в самом деле, подумать, что делать.
И другие сказали:
— Надо подумать.
Они сдвинулись теснее вокруг Анки.
И тридцать юных сердец, в которых еще не было и сотой доли того опыта жизни, какой имеет хотя бы одно человеческое сердце, достаточно долго бившееся на свете, но в которых было столько доброты, столько детской преданности, столько человеческого участия, сколько вряд ли найдешь в тысяче юных сердец, сошлись на этом странном совещании в одном желании — сделать учителя счастливым.
И поскольку он не любил, как они заметили, чтобы долго глядели на его искаженное шрамами лицо, то лучше стараться на него не смотреть.
И они решили на него не смотреть.
Полны событий были эти первые дни, проведенные Галей и Анкой в школе.
На третий день после последнего урока пришла Анна Ивановна и сказала, чтобы все комсомольцы собрались в классе и рассказали, как провели они лето.
Она хотела это знать, как хотела знать все, что касалось их жизни.
И вот в этой просторной, светлой комнате, которая стала их новым классом и где за окном стояла во всех своих одеждах осень, стало совсем тесно. Лишь немногие ушли домой. Но зато пришли другие — из девятого класса, и даже совсем молодые — из восьмого. Пришли и те девочки, которые в первый день посмеялись над Галей и Анкой и не пустили их посидеть на своих старых местах. А теперь они сами сели с ними рядом и попросили их потесниться немного на парте.
Они сидели по трое, по четверо на скамьях, они висели на подоконниках, они стояли. Много их стало в школе! Так у старой яблони с могучим корнем в год урожая никогда не хватает ветвей для плодов.
Шум стоял во всех углах. И старая учительница с минуту задумчиво смотрела на свою маленькую армию, слушая молодой неугомонный говор.
Были тут разные дети. Многих, как Анку, пощадила судьба: они жили в тылу, далеко. И грозный шум огня, на гребне которого поднимался ужас, гнавший людей из жилищ, и гром взрывных волн, катившихся по земле, не дошел до их слуха. Но иные голоса были знакомы и им. То голос матери, с надеждой и тревогой вскрывающей каждое письмо, то гордый голос братьев, издалека говорящий им о подвигах, то смертное их молчание, то плач в семье, то радость, принесенные на крыльях длинного номера полевой почты, столь привлекательной для детей в своей таинственности.
— Ну, Анка, — сказала Анна Ивановна, — может быть, ты расскажешь нам первая, как вы работали в колхозе. Дай нам отчет.
Но Анка никогда не любила отчетов. Язык ее немел, как только она выходила перед классом или поднималась куда-нибудь на трибуну чуть повыше других, хотя бы на одну деревянную ступень. Это всегда казалось ей наваждением. Поэтому она ответила смущенно и даже с недоумением:
— Как работали, Анна Ивановна? Да неплохо как будто. Работали, и все тут.
И она показала учительнице свои загорелые руки и свои ладони, которые стали твердыми от земли и от дерева и теперь не сгибались так легко, как прежде. Но она не пожалела своих нежных и мягких ладоней. Она посмотрела на них сама со смехом и с удивлением.
Потом другие показали письмо, написанное загрубелыми крестьянскими пальцами, в котором за колхозной печатью с точностью было указано, сколько процентов и какую норму выполнили дети пятой школы, и сколько они выпололи проса, и сколько выдергали льна. Но в процентах, внесенных в колхозный протокол, не было сказано многого, что Анка могла бы рассказать, если бы только хотела.
Она могла бы рассказать, как холодно просыпаться на рассвете в колхозном дощатом сарае, сквозь щели которого входят холодные струи тумана, как он ползет, шурша по соломе, и обнимает тебя, как змея. Но зато как приятно потом подбежать к колодцу, облить лицо водой и, вздрогнув от этого, обернуться к полям, что уходят до самого горизонта! Они еще дремлют, но даже в дремоте своей, как мать, уже ожидают тебя. Ожидают тебя благородные остистые колосья пшеницы, плывущие тихо под ветром, точно крылатое войско; ожидают тебя остроперые, нежные, покорные метелки проса, и там же будяк, молочай, лебеда — ненавистные сорные травы. С какой силой их длинные корни держатся за твердую землю, как упорно, точно фашисты, не хотят они уходить с нее! Но ты рвешь их до кровавого пота, и спина твоя болит, точно рана, полученная тобою в бою, и ты побеждаешь, когда трупы их кладешь на межу. Высокий лен ждет тебя на заре и тихо звенит тебе в уши своими спелыми коробочками, такими крошечными, такими красивыми на вид, что ты улыбаешься им. Но стебли его так тверды и крепки, что слабые руки твои покрываются трещинами. И ты плачешь сначала от боли, и ты все-таки трудишься и бываешь счастлива, потому что труд твой священ. Он нужен всем — не тебе одной. И дни твои проходят не в убытке. Руки твои твердеют, плечи наливаются силой, шире открываются на мир глаза, и мечты поднимаются выше. И сколько раз, глядя на пролетающих в небе журавлей, ты в их колышущемся строю, под их звенящий крик уносишься далеко-далеко и опускаешься рядом с братом в бою.
Он говорит тебе:
— Где ты, сестра?
Ты отвечаешь:
— Я тут.
Вот что могли бы рассказать Анка и другие девочки, если бы хотели и умели рассказывать.
Но Галя, которая так чудесно умела рассказывать, если бы даже хотела, не могла бы этого рассказать. Она провела все лето в городе, ходила в Дом пионеров и посещала театральный кружок. Поэтому она молчала, сидя рядом с Анкой, и думала: «Почему они так счастливы? А я так несчастна, и никто из них этого не видит!»
Она могла бы уехать с ними, так советовали ей Анна Ивановна, и Анка, и многие школьные друзья, и, как они, испытать те чудесные бесхитростные радости, что дает человеку труд.
И она могла бы вместе с Анкой повалить дерево в лесу и отдохнуть потом на свежем и пахучем пне, и она могла бы поднять с земли оброненное перезревшим колосом зерно, чтобы положить его в общую кучу.
Но мать и те друзья, кто, казалось, любил ее больше и предпочитал не трогать ее горя, оставили ее на месте.
Сейчас она не была благодарна им за это и молчала.
Она молчала еще и потому, что стыд, который она чувствовала после урока Ивана Сергеевича, и страх, который она испытала, никак не проходили в ее душе.
Они не проходили ни на втором его уроке, ни на третьем, ни через неделю, ни через две, как ни старалась она взять себя в руки.
Сначала она вовремя приходила на уроки истории, садилась рядом с Анкой и, опустив глаза в свою тетрадь, целый час оставалась неподвижной.
Эту неподвижность можно было бы принять за величайшее внимание.
Но хотя речь учителя была по-прежнему вдохновенна и живой рассказ его по-прежнему увлекал воображение всех, Галя не слушала его.
Всеми силами старалась она избавиться от своего несчастного чувства, о котором не могла бы рассказать никому из своих друзей, даже Анке.