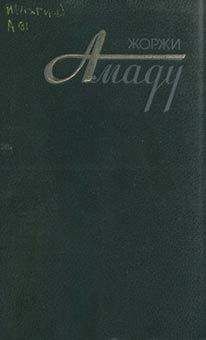Вы знаете, что такое бенефис? Верно нет, я сама только в пятницу узнала. Это вроде именин актера: он играет не то, что ему велят, a то, что сам хочет, и потом ему публика подарки делает.
A он умно распорядился, что «Демона» захотел поставить, я бы на его месте то же самое сделала, потому что это самая лучшая опера… Правда, я другой никакой не видела, но это все равно, - никогда не поверю, чтобы можно было еще что-нибудь лучшее выдумать, так тут все красиво: и Демон, и ангелы, и монастырь, и сторож так хорошо в дощечки бьет, a кругом тихо, темно…
A когда Тамара плачет, что её жениха убили, вдруг над ней Демон появляется в такой длинной черной разлетайке, за спиной большие крылья, на голове бриллиантовая звездочка, и где он ни станет, все сейчас красноватым светом озарится. - Чудно!
На следующий день, благо праздник был, вытащила я y папочки из шкафа Лермонтова и стала долбить… Учить то есть, много выучила.
A как Тамара просит, чтобы ее в монастырь : отпустили, a отец чего то ломается, не хочет, она бух на колени:
«Отец, отец, оставь угрозы,
Свою Тамару не брани.
Я плачу, - видишь эти слезы?
Ужель не трогают они?»
Я и это наизусть выучила, a потом стала пробовать представить этот кусочек в мамочкином будуарчике перед трюмо. Очень красиво выходило. Завернулась я в простыню и на колени чудно шлепалась, только вот пела я немножко того… Не так чтоб уж очень хорошо.
Но что мне больше всего понравилось, это апо… апо… Да как же его? - Апо… Апофедос?… тоже нет, слишком на Федоса похоже - ну, одним словом, конец, последняя картина, когда Тамара уже умерла и ангелы её душу на небо несут. Господи, как красиво! ну, совсем точно правда.
A Демон вовсе на черта не похож: хвоста y него нет, a рожки хоть маленькие и есть, но все-таки он по-моему больше на черного ангела смахивает, и красивый - прелесть.
Как это Лермонтов сумел выдумать такую чудную вещь? Жаль, что он умер, мне бы хотелось посмотреть на него, не может быть, чтоб он был таким, как все люди, верно совсем другой. Хоть бы когда-нибудь такого увидать.
Глупая! Ну, какая же я глупая!… И зачем мне на Лермонтова смотреть, когда y меня моя собственная мамуся имеется? Вы читали её сказки «Ветка мира» и «Сад искупления?» Нет? Ну, тогда конечно вы не поняли, почему я себя сейчас глупой назвала. Потому, что эти две сказки, это… даже сказать нельзя, какая прелесть, - лучше «Демона»: - там не только ангелы, даже Серафим есть.
Вот если б из этого оперу сделать! Все бы так и ахнули. Как жаль, что мамочки дома нет, я бы ей сейчас же это посоветовала. И зачем она только в этот глупый гостиный двор уехала? Да, правда, ведь мои башмаки каши запросили, a в гимназию в туфлях идти нельзя, морозище здоровенный.
Прежде я все думала сделаться женщиной- математичкой, но теперь ни за что - фи! Сиди да таблицу умножения подсчитывай, либо какое-нибудь противное деление делай. Покорно благодарю! Пусть себе наша «Краснокожка» в этом упражняется.
Нет, теперь я совсем о другом мечтаю: быть писательницей, сочинять трогательные стихи (если это не слишком трудно), сказки, оперы - вот это так прелесть… A актрисой?… Актрисой еще гораздо приятнее: говоришь все-такие красивые, грустные слова, платье блестит, всюду бусы, золото, публика аплодирует, плачет, топает, бросает цветы - хорошо!
A бенефис? Бенефис тоже чудно: так всего раз в год именины и раз рождение бывает, a тут еще можно всякий месяц бенефис устраивать, - вот то много всяких красивых вещей в квартире наберется!
Боже, Боже, как мне хочется быть актрисой!…
Нет… Лучше не просто актрисой, a так, чтобы самой что-нибудь сочинить такое красивое, печальное, и самой же потом представлять; это было бы самое-самое большое счастье, какое только придумать можно, даже еще лучше, чем царицей быть. Вот хочется!
Господи, сделай, чтоб я могла сочинять как мамочка, как Лермонтов, a я за это готова всю жизнь ничего сладко….
Нет, что я? Что я? Хорошо, что не договорила. Не есть никогда ничего сладкого?? - вот ужас! Я только чай без сахару пью, и то как мне тяжело приходится, a тут никогда ничего, ни меренг, ни мороженого, ни шоколаду? - ни за что бы не выдержала. Да и зачем это нужно? Мешать оно ничему не может. Ведь другие актрисы наверно шоколад едят, a мамуся моя так даже и очень, особенно крафтовские «langues de chats», как y нас в ложе были, a стихи какие чудные пишет.
Вот другие все могут: и поют, и рисуют, и сочиняют, неужели же одна я совсем неталантная и ничего не буду уметь? Вот хочется актрисой быть!
М-llе Linde плачет. - Что мы решили.
Бог знает, сколько мы уж времени не видели m-lle Linde, ей даже на дом журнал посылали, чтобы проставить четвертные отметки. Сестра её долго была больна и несколько дней назад умерла.
Вчера наконец пришла m-lle Linde. Худенькая такая, еще кажется похудела, личико грустное - грустное, глаза блестят, a под ними такие широкие темные круги.
Евгения Васильевна предупредила нас, чтобы мы не шалили и вели себя тихо. И правда, в классе было замечательно спокойно, только «кумушки» попробовали таки немного побушевать, но на них мы сами со всех сторон зашикали.
Дали нам писать немецкие склонения. Пишу я, только вдруг подняла голову, вижу, m-lle Linde сидит боком y стола, повернув голову к окну, смотрит в одну точку, губы y неё немного дрожат, a слезы, крупные такие, так и катятся из глаз, и она даже не вытирает их. Это близенько, совсем почти около меня, не больше, как шага полтора.
Тут уж мне не до склонений было, смотрю на нее, и так жалко мне ее, так жалко… В горле щекочет, в глазах тоже… Не могу, не могу я видеть, когда кто-нибудь плачет! Я и про перо забыла, что y меня в руке, бросилась около неё на колени и крепко, крепко обняла ее за талью.
«М-lle Linde, дорогая, золотая, не плачьте, пожалуйста не плачьте, мне так жаль, я так вас люблю», - всхлипывала я.
Она сперва чуть-чуть вздрогнула, не заметила верно, как я подошла, но потом прижала меня за лицо к своей груди.
«Доброе, милое дитя», - ласково так прошептала она.
Девочки перестали писать и смотрели на нас; y многих тоже были такие лица, что вот-вот и они заревут, одна только какая-то фыркнула, оказалось Зубова. Дрянная девчонка! M-lle Linde плачет, a ей смешно. Ну, и досталось же ей потом от всех нас.
Я потихоньку полезла в карман, потому что мне непременно нужно было высморкаться, но тут m-lle Linde точно проснулась:
«Идите, малютка, на место, теперь не время грустить, надо делом заниматься».
Она хотела улыбнуться, но личико y неё сделалось такое жалкое, такое жалкое, что я и теперь не могу забыть его выражения.
Села я на место и стала писать, но уж какое там писанье? Я только и делала, что сморкалась, a из глаз все-таки на страницу капало и совсем она мокрая стала, чернила разлились, так что иного и прочитать нельзя было. Худо ли, хорошо ли - дописала; вряд ли очень хорошо.
Странные какие наши девочки, многие потом говорили, что им тоже очень хотелось подойти и приласкаться к m-lle Linde, только неловко было, совестно. Чего же тут совестно? Коли человек плачет, надо же его приласкать? Надо же утешить? А они - «неловко», рассуждают еще. Чудачки!
Наша компания потом целый день только и толковала про m-lle Linde и её несчастных маленьких племянников. Бедные малыши! Они совсем, совсем еще маленькие, одному шесть лет, другому пять и младшему всего два года, это нам Евгения Васильевна сказала. Такие каплюги и уже ни папы, ни мамы, подумайте только! На все и про все одна тетя, да и та больная, и потом ведь она почти целый день с нами в гимназии занята, a они, жалкушки, сидят себе дома одни одинешеньки и поиграть может быть не с чем; Евгения Васильевна говорила, что они очень, очень бедные.
Вдруг я вспомнила про свои четыре рубля, больше даже, еще 1 р. 63 коп. прежних денег есть…
«Знаете что?» - говорю: «Давайте сложимся и купим этим ребятишкам каких-нибудь игрушек, a потом пошлем, только чтоб никто не знал. Хотите? У меня есть 5 р. 63 коп. Кто ещё дает?»
Шурка так даже мне на шею кинулась.
«Ты душка, Стригунчик, и голова y тебя многоумная. Отлично! Только y меня всего 1 р. 40 коп. есть».
У Любы нашлось 1 руб. 80 коп., y Юли целых три рубля, y Штоф 90 коп. Вот и порешили все это принести с собой на следующий день и толком обсудить, что именно купить.
Люба предложила спросить весь класс, может еще кто-нибудь захочет денег дать. Сперва так и решили сделать, но потом передумали. Бог с ними! Денег y нас на игрушки хватит, a поди-ка, скажи только всем этим болтуньям, сейчас на всю гимназию разнесут, a нам хочется, чтобы никто, никто про это не знал; ну, мамам-то, понятно, мы нашим скажем.
Придя домой, все это я первым же делом своей мамусе и изложила. Она очень похвалила, говорит только, что лучше немного иначе распорядиться:
«Ведь игрушек y всякой из вас много таких найдется, которые вас больше не интересуют, да и книжечек верно тоже; чем покупать, вот их лучше и пошлите; можно все это к нам принести, a потом я отошлю куда полагается. На те же деньги, что вы даете, да я еще немножко своего прибавлю, мы купим этим малышам всяких нужных вещей: рубашечек, платьица и тому подобное. И конечно, материей, чтобы их тетя сама могла распорядиться, как ей удобнее. И потом, Муся, нужно так сделать, чтобы m-lle Linde не знала от кого это, иначе ей может быть немножко не то, чтоб обидно, a неприятно для самолюбия; так, по крайней мере, ей никого благодарить не придется, a это бывает крайне тяжело для того, кому дают. Поняла? Я думаю, подруги твои ведь не ради благодарности это выдумали, a потому, что вам самим приятно доставить удовольствие бедным маленьким сироткам. Правда?»