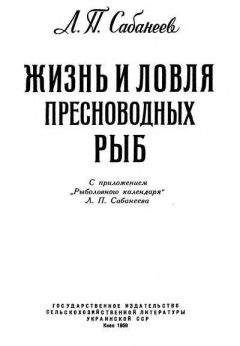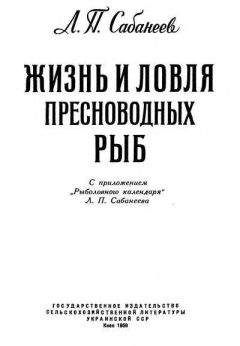— Ха! — воскликнул Яшка. — Медали получают, у которых родословная, отец и мать, бабушки и дедушки и полно всяких родственников. А у этой — никого.
— Если бы у неё была медаль, — сказал Боря, — то мама разрешила бы её оставить.
— Да, если бы у неё была медаль, — закричал Яшка, — она бы к тебе и не попала! Она бы у меня жила.
А Морошкин подумал: «Если бы у неё была медаль, то мама и папа, наверное, согласились бы». И он спросил у Валентины Ивановны:
— А где достают эти самые… собачьи медали?
— На выставке, вот, например, в нашем парке, — сказала Валентина Ивановна. — Ты не простудился? Тебе не холодно?
— Нет, — сказал Морошкин.
— Знаешь, — сказала Морошкину Настя, — ты собаку совсем забрал?
— Совсем, — сказал Морошкин.
— А ты не мог бы её у меня оставить? Хотя бы на денёк один? Хотя бы на завтра только, на выходной день?
— А ты её мыть будешь?
— Нет, — сказала Настя.
— А одеколоном прыскать?
— И одеколоном не буду.
— А варениками кормить?
— И варениками не буду кормить, — сказала Настя. — Оставишь?
— А причёсывать ты её будешь? И банты завязывать?
Настя молчала.
— Отвечай, будешь или нет?
— А причёсывать тоже нельзя? — спросила Настя.
— Тогда не оставлю, — сказал Морошкин.
— Нет, нет, — заторопилась Настя. — Причёсывать не буду. И банты завязывать тоже.
— Ладно, — сказал Морошкин. — Но только на один день.
Глава семнадцатая, в которой овсянка, мясо и морковка портят всё дело
В выходной день утром Морошкин торопился позавтракать. Он боялся, что Настя позавтракает раньше и уйдёт гулять с собакой. Поэтому он поскорее запихнул в себя сосиски, залил кофе и встал из-за стола.
— Что это с тобой сегодня? — сказала мама.
Морошкин испугался, что мама догадается о причине его поспешности, и тут же сел на место.
— Ни, — сказал Морошкин и поперхнулся… — Ни…
— Отец, взгляни, что с ребёнком, — сказала мама, — у него нет температуры?
— Не… — попытался сказать Морошкин, но последняя буква застряла у него во рту вместе с сосиской.
— Отец! — крикнула мама. — У меня руки в тесте. Посмотри, что с ребёнком.
Папа вышел из ванной. У него была мокрая голова, и, растирая её полотенцем, он ронял на пол блестящие круглые капли.
— Сейчас, — сказал папа весело и приложил прохладную, ещё влажную руку ко лбу Морошкина.
От прикосновения папиной руки Морошкину стало легко, и он подумал, что сейчас папа скажет: «Ребёнок здоров. Разрешаю ему держать собаку».
Колючие мурашки побежали по спине в предвкушении этих прекрасных слов.
— Ребёнок здоров, — сказал папа. — Где же мои сосиски?
— А что это он сегодня так быстро поел? — спросила мама. — Вот бы всякий раз так ел!
— Я бы ел… — начал Морошкин, но замолчал.
Он не решался напомнить о собаке. Ведь мама и папа считали её уже несуществующей.
— Быел! — засмеялся папа. — А ты не бы ешь, а просто ешь.
Папа потрепал Морошкина по голове.
— А то: быел, быспал, бывёл себя — какая жизнь, а?! Ты гулять собрался?
— Да, — вздохнул Морошкин.
— Ну, беги!
Морошкин побрёл в переднюю, надел пальто, шарф и вышел на лестницу. «А может, надо было сказать про собаку?» — подумал он, но вспомнил про овсянку, мясо, кости, витамины, молоко и морковку. И он промолчал.
Глава восемнадцатая, в которой не следует забывать о медали для собаки
Насти на улице не было. Морошкин послонялся немного, посмотрел, как сажают деревцá вокруг дома, задержался возле одного дéревца. Здесь как раз уже была вырыта ямка, и женщина в красном платке, повязанном лихо, наискось, как у пиратов, держала деревце на весу, перехватив его посередине чёрной кожаной варежкой.
— Что, парень, смотришь? — сказала она Морошкину громко и весело. — Подмогни!
Морошкин растерянно посмотрел на женщину, не зная, как ей помочь.
— Видишь, мы работаем? — сказала женщина. — А ты песню пой, чтоб нам веселее было.
Все, кто сажал деревья вокруг, засмеялись, а тоненькая голубоглазая девушка спросила:
— Ты умеешь петь, мальчик?
— Умею, — сказал Морошкин.
— Пой, чего молчишь! — приказала женщина в красном платке и сунула деревце мохнатым концом в ямку.
Девушка взяла лопату и стала быстро кидать в ямку землю, забрасывая корни.
А Морошкин запел песенку крокодила Гены. Сначала он пел и не слышал себя, а потом его голос зазвучал ясно и чисто, как будто ветер приносил его откуда-то издалека, из тех заросших лесами мест, которые открывались сразу за домами. И Морошкину нравился этот голос и то, как ладно он поёт и как слово приходится к слову в этой песне. Уже все деревья были посажены в ямки, закиданы землёй и стояли ровно и прямо, а Морошкин всё пел. Наконец, песня кончилась и Морошкин спросил:
— А если дерево сажать наоборот?
Женщина засмеялась:
— Если тебя перевернуть вверх ногами, ты сможешь ходить?
— Нет, — сказал Морошкин. — Значит, это у них ноги были?
Весёлый лай раздался за спиной Морошкина. Он оглянулся и увидел собаку, которая бежала к нему, и Настю, еле поспевающую за собакой.
— Ого! — крикнул Морошкин и от удовольствия подпрыгнул на месте.
Собака добежала до Морошкина, встала на задние лапы и, свесив красный арбузный язык, счастливая и улыбающаяся, уставилась Морошкину в глаза. Морошкин обнял собаку и с удовольствием вдохнул её запах.
— Хорошая, — сказал Морошкин собаке.
«И ты тоже хороший», — говорили собакины глаза.
— Вот, — сказала Настя, — даже шапочку потеряла, так бежала. — Она отряхнула шапочку, натянула её на голову и сказала: — У меня новая шапочка, Морошкин. Нравится?
Но Морошкин даже не слышал, что говорит Настя.
— Идём, — сказал он собаке, и все трое двинулись к парку.
Глава девятнадцатая. Собачья выставка
Первый, кого они увидели по дороге, был высокий чёрный дог. Он горделиво шёл рядом со своей хозяйкой — маленькой девочкой, такой же, как Настя. Спина дога так лоснилась, что в неё можно было смотреться, как в зеркало, а в боках отражалась вся улица со всеми троллейбусами и магазинами. На голове у дога, как пирамидки из чёрного сахара, искрились уши. На шее висело блестящее ожерелье. Хотя девочка была маленькой, у неё был важный, независимый вид.
Собака Морошкина, увидев дога, заулыбалась и всем своим видом показала, что была бы не прочь познакомиться, но дог величественно прошествовал мимо, не замечая её.
Из-за поворота вышел большой белый пудель. На хвосте у него мохнатая кисточка, а грива — как у льва. Глаза пуделя так и бегали по сторонам, но лакированный нос был неподвижен, важен и неприступен. Сразу было видно, что это не совсем обычная собака. К тому же на шее у пуделя тоже висело ожерелье из золотых и серебряных монет. Увидев монеты, Морошкин сообразил, что это, наверное, и есть те самые медали. «Раз обе собаки с медалями идут в одном направлении, — подумал Морошкин, — значит, это неспроста. Значит, надо следовать за ними».
Белый пудель, заметив собаку Морошкина, скосил глаза, и его напружиненный нос заметно обмяк и приобрёл собачью подвижность.
— Джекки! — строго сказал ему хозяин и погрозил пальцем.
Джекки посмотрел на хозяина невинно и преданно и больше на собаку Морошкина не смотрел.
Всю дорогу к чёрному догу и белому пуделю присоединялись разные собаки. Причёсанные, вымытые, аккуратно подстриженные, они все шли чинно и ровно, не убыстряя и не замедляя шага, и ни одна из них не посмотрела на собаку Морошкина.
А собака Морошкина становилась как будто меньше ростом и зарастала шерстью на глазах. Когда они подошли к воротам парка, она была такой лохматой, как будто её вязали на спицах из чёрной шерсти сто тысяч добрых бабушек. Вид у неё был виноватый. Уши покорно висели, хвост опустился и почти волочился по земле, оставляя на песке узкую дорожку.
— Куда мы идём? — спрашивала Настя то и дело, но Морошкин не отвечал. Он так устремился вперёд, что даже его собственные ноги не поспевали за ним и оставались немного позади.
И наконец, вот она — собачья выставка! Вот она, шумная, оживлённая, с длинным столом посередине, за которым сидят люди. Со множеством собак, которые стоят вокруг стола, не слишком близко, но и не слишком далеко, стоят, сидят или лежат в ожидании сигнала.
Вот она, выставка: где определяют лучших собак, где дают медали, откуда собачья жизнь может начаться совсем другая, счастливая и безоблачная. Вот где, наконец, поймут и оценят нашу собаку!