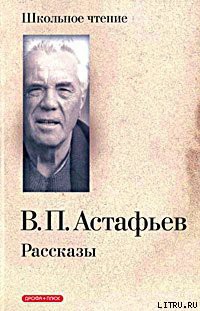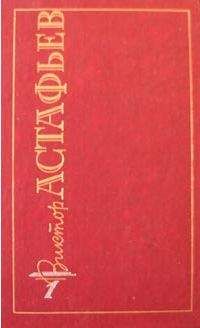упивался такой картиной, гробовозы похохатывали, подначивали Терентия, который стоял среди улицы, седенький, коричневый, словно орех, сухой от ветров и солнца, и не знал, что делать. Потом он сел на бочонок с омулем и принялся бить себя кулаками по голове.
— Куда я денуся теперь, сирота несчастная? Где найду дом-пристань свою?
— А вот не бродяжничай, не бродяжничай! Эт-то что же ты за моду взял: наскочишь, бабу обрюхатишь и как вихорь унесешься? — корила Терентия бабушка Катерина Петровна, которой до всего и до всех дело. — Ты подумал бы башкой своей удалой, — бабушка согнутым перстом стучала по покаянной голове Терентия, будто по тыкве, — как твои детки тута? Пить-есть чего у них имеется? Как жена твоя родная, жива или мертва? Загуляла или блюдет себя?.. Или тебе гори все огнем-полымем?
— О-о-ой! — мотал головой доведенный до полного отчаяния Терентий. — Убить меня мало, подлеца такого, тетка Катерина!
Кончилось все это тем, что Терентий и бочонок с омулем оказались у нас, а через день сломленная жалостью бабушка за руку, словно школьницу, привела тетку Авдотью, и в присутствии дедушки, Ксенофонта и бабушки Терентий ползал на коленях перед женою, клялся на образа, что покончит с «прошлым», будет как «андел» — тише воды, ниже травы, вина в рот не возьмет и никуда больше не уедет, потому как «осознал ошибку своей жизни».
Ничего Терентий не осознал. Недели через две он начал куролесить по селу, пропил часы, сапоги и шляпу, бил тетку Авдотью, и она его била, и однажды, будто печной угар, улетучился из дому и села Терентий, снова подался бродяжничать, «длинные, фартовые» рубли искать, а тетка Авдотья опять «налаживалась» и скоро наладилась, потому что на этот раз Терентий не оставил ей девку на память, да и внуков надо было кормить и растить. Девкам понравилось делать и сплавлять внуков бесхарактерной матери. Так до конца дней своих она и хороводилась с детьми, «не знала скресу», по выражению бабушки, то есть роздыха и покоя.
Не встречал я людей на свете, кроме бабушки и тетки Авдотьи, которые бы так люто «считались», как у нас называют бабью перебранку, и все же так прочно дружили бы, жалели одна другую и подсобляли в трудные дни.
Вот к тетке-то Авдотье и подалась бабушка с намерением перебить у нее все окна, битые не раз уже и не два разными другими людьми. А пока она бегала, выясняла обстановку, дед вернулся с реки, забрался на свой курятник и спокойно уснул.
Неизрасходованный заряд сжигал бабушку, и утром она выпалила его в деда. Тот выслушал бабушку сдержанно, лишь поскорбел лицом, и борода его, под Пугачева стриженная, раза два прошла вверх-вниз, чего бабушка, к несчастью, не заметила и вовремя не застопорила. Не дослушав до конца бабушку — завелась она надолго, — дед пошел во двор, вывел коня Ястреба, вынул заворину из ворот, забросил ее в гущу крапивы, и, смекнувши, к чему дело клонится, я ринулся в избу:
— Баб, а баб! Дедушка уезжает!..
— И понеси лешак! — с прежним накалом в голосе крикнула бабушка.
Бунт деда дошел до такого накала, что он не запер ворота, оставил их распахнутыми и, более того, не поднял доску в подворотне, разнес ее телегою в щепье.
— И не запирай! И не запирай! — кричала бабушка с крыльца. — И я не запру! И я не запру! Стыдобушки-то! Сраму-то! Глядите, люди добрые, как у нас ворота расхабарены! Дивуйтесь! Поло! Кругом поло! У тебя поло-то! У тебя!..
Так кричала бабушка, а сама поднималась на цыпочки, вытягивала шею, надеясь, что дедушка погром учинил сгоряча и одумается еще, воротится. Но за кладбищем телега загромыхала по камешнику Фокинской речки, с бряком, звяком пронеслась в гору и исчезла в сосняке. Ястреб, перепуганный тем, что смиренный и молчаливый хозяин, стоя во весь рост в телеге, рычал, хлестал его вожжами, мчался в гору прытче племенного жеребца, по направлению к заимке, где оставалась еще наша избушка, не занятая сплавщиками, потому как стояла далеко от запони.
Кольча-младший заменил на сенокосе дедушку, чтобы высвободить его в помощь бабушке. А помощник-то, вон он, был и нету!
— Ха-рашшо-о-о! Харр-ра-шо-о-о! Очень даже славно! — подбоченилась бабушка, когда звук телеги умолк в лесу. — Съедутся детки родимые, где тятя — спросят. Внуки, деточки малые — где наш дедушка родимый? А я скажу имя: милые мои деточки, ударила ему моча в голову, и умчался ваш Илья-пророк ко всем лешакам, токо телега загремела! И поймите вы, мои родимые, скажу я имя, какая моя жизнь была с таким человеком! Ведь он на лес глянет — и лес повянет! Сколько же мук приняла я, горемышна-а-а…
Попусту причитать и высказываться бабушке недосуг, она говорила, бранилась и напевала, управляясь по хозяйству, но ворота не закрывала и мне закрывать не велела. С уязвленностью и тайной болью она все повторяла: пусть люди посмотрят, пусть полюбуются и рассудят, какова ее жизнь и какие она страдания перенесла на своем веку.
До самой ночи ворота были полыми, а когда стемнело, пришлось нам их все же закрывать. Надежд на возвращение дедушки больше не оставалось. Пока нашли мы в жалице заворину, пообстрекались оба с бабушкой. Она примачивала мои волдырями взявшиеся руки и уже вяло, на последнем накале грозилась:
— Посидишь вот голодом-то, посидишь!.. Ишь, сбрындил! Че и сказала-то! Ну, не выпивал дак не выпивал. Я тоже нервеная, тоже могу лишнее брякнуть… Конишку-то, конишку забьет! В ем, в крехтуне, зла этого… Ой, забьет…
Почти весь следующий день бабушка крепилась, сохраняя твердость, все разговаривала так, будто дед — вот он, рядом, но потом сдалась, наладила заплечный мешок с харчами, снарядила меня на заимку.
— Кольчу мне жалко, Кольчу, — толковала мне бабушка. — Сам-от хоть седни, хоть завтре с голоду окочурься — не охну. И ни единой слезы не уроню. Ни единой!.. — Бабушка притопнула и кулаком в сторону заимки погрозила. Но за воротами начала переминаться, поправлять на мне мешок и конфузливо просить: — Созови дедушку-то, созови. Бычка колоть надо. Делов полон двор… Созови. Он ндравный, но тебя послушат… Созови, батюшко…
Легко сказать — созови, а как созову? Затруднительно! Малейшая оплошность могла обернуться еще большим отчуждением дедушки от дома.
Дед встретил меня на заимке хмуро, и перво-наперво надо было ликвидировать его мрачное настроение. Как ни в чем не бывало включился я в дела, схватил ведро, зазвенел им и побежал к ключу. Затем развел огонь, намыл картошек, заорал: