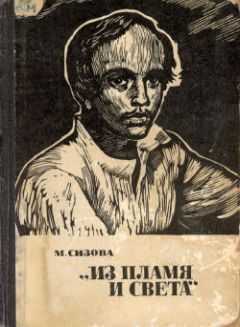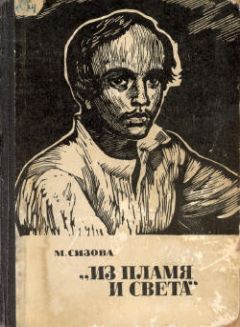Ах, эти тройки и долгая дорога с верстовыми столбами, то поливаемая дождем, то занесенная снегом, то палимая солнцем! Сколько раз уносили его тройки, уводили бесконечные дороги в дальний путь, а сердце звало назад и не хотело расставаться с тем, что оставалось позади!
Тройка уже несла его по ровной дороге, а в гостиной Карамзиных были открыты большие окна, выходившие на Летний сад, и Софи Карамзина подошла к самому окну, чтобы легче было разобрать оставленные Лермонтовым стихи.
Должно быть, уже совсем наступил вечер, потому что она сказала:
— Прикажите, мама, чтобы принесли свечи. Сумрак мешает мне разобрать эти строчки.
Но и после того, как принесли свечи, она все еще держала этот листок перед глазами и что-то все еще застилало ей глаза.
Потом она вытерла их платочком и прочла:
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.
— Мама, это прекрасно, не правда ли? — спросила Софи, останавливаясь.
— Читай дальше, Софи!
Софи дочитала до конца.
— Да, это прекрасно, — повторила, прерывая царившее молчание, ее мать.
— Какую чудесную музыку можно бы написать на эти слова! — сказал Виельгорский.
Софи молча смотрела в окно.
— Мама, — спросила она, помолчав, — скажите мне: вы уверены, что он вернется?
— Я надеюсь на Жуковского, — ответила Екатерина Андреевна.
— Как это ужасно! — продолжала Софи, точно отвечая самой себе. — У России отняли Пушкина, а теперь хотят — я знаю это — отнять и Лермонтова!
. . . . . . . . . .
Тройка почтовых коней бежала по Московской дороге.
А над дорогой, над равниной, поросшей соснами, проплывали с севера на юг легкие облака — «вечные странники», открывая чистое весеннее небо с бледным лунным серпом.
Нет, до чего же уютна была в эту весну Москва! С каким удовольствием он смотрел, как на майском солнце отогревались ее особняки, окруженные садами, а еще голые деревья приветливо махали весне ожившими мягкими ветками! В высоких пролетках, на верховых лошадях и в открытых колясках можно было видеть знакомых москвичей, уже сбросивших тяжелые шубы и одетых по-весеннему.
Блестели цилиндры, синели, поблескивая золочеными большими пуговицами, весенние пальто модного темно-лазурного цвета, и развевались от теплого ветра прозрачные вуали на маленьких шляпках амазонок.
Дом на Малой Молчановке, где когда-то жили они с бабушкой, перекрасили в белую краску. В скворечник прилетели скворцы. А на лопухинском дворике уже пробивалась свежая травка, бегали дети, играя в прятки. Был пуст в это время дом Лопухиных, и Сашенька Верещагина жила в чужих краях.
Грустно было смотреть на опустевшие дома с окошками, замазанными мелом или плотно завешенными тяжелыми складками штор.
Над тихим переулком звонили в свой час колокола и перекликались на разные лады голоса разносчиков.
— Вот уголь! Уголь!.. — зычно хрипел бас с тарахтящей телеги.
И звонко из-за угла зеленого забора отвечал ему тенорок:
— Редиска молода-а-ая!..
И верещали над головой скворцы.
Как непохоже все это на подтянутый, чистый и просторный, строгий в своей красоте Петербург!
Лермонтов побродил по знакомым переулкам, посмотрел издали на Собачью площадку, усеянную детьми, прошел мимо дома Соболевского, где когда-то останавливался Пушкин.
В Английском клубе кончили топить печи, и в широко открытые окна вливался нагретый солнцем воздух, просушивая залы.
Да, опустела Москва, поразъехались друзья… К счастью, не трогались еще с мест московские писатели. И в первый же вечер Лермонтов отправился к Павловым, узнав еще в Петербурге, что они на лето обычно оставались в городе. Он был глубоко тронут тем радушием, с каким встретили его Николай Филиппович и Каролина Карловна.
— Привезли «Героя нашего времени»?
С этими словами обратился к нему Павлов, не дождавшись даже, пока Лермонтов снимет шинель.
— А вы дадите мне свои новые повести? Я знаю, вышли в свет и «Ятаган» ваш и «Маскарад». У меня тоже был свой «Маскарад», но с ним вышло иначе. А «Ятаган» ваш прелесть, недаром Пушкин вас хвалил.
Лермонтов отвечал ему, все еще стоя в передней.
Но Каролина Карловна уже спешила ему навстречу, и скоро за неизбежным в Москве чаем начались разговоры о литературных новостях. И как об одной из новостей рассказал Лермонтов о перемене судьбы своей и о новой ссылке.
— То-то мне сразу показалось, что на вас форма совсем другая, — грустно сказала ему хозяйка. — Да ведь не мастерица я полки-то разбирать, точь-в-точь как грибоедовская героиня. Кстати, вы теперь опять увидите, наверно, в Цинандали Нину Александровну Грибоедову… Мы будем ждать с нетерпением трилогию вашу, о которой вы говорили нам еще в тридцать восьмом году, и описание трагической гибели Грибоедова.
— Война с Персией должна у меня быть в последней части, а мне бы хоть как-нибудь до первой добраться. Да и не уверен я, что в этот раз попаду в Кахетию. Я ведь в Тенгинский полк.
— Как? В Тенгинский? — переспросил Николай Филиппович. — О нем привозят офицеры, возвращаясь с Кавказа, не очень-то хорошие отзывы. Смотрите, Лермонтов, берегите себя, потому что вас там беречь не станут.
— Я уверен в этом, — ответил Лермонтов и переменил разговор, попросив Каролину Карловну прочесть что-нибудь из ее новых переводов русских поэтов на немецкий или французский язык.
— Я теперь вашу «Думу» хочу перевести, — сказала она. — Это замечательное по силе и глубине, по зрелости мысли стихотворение! Но наши славянофилы на вас сердиты за него — и Хомяков и даже немного Погодин. Говорят, что это Чаадаев заразил вас своим отношением к России.
— Чаадаев? — быстро переспросил Лермонтов. — Я чту его высокий ум, но никогда не разделял его взглядов на Россию, и «Дума» моя обращена не ко всему нашему поколению, а только к представителям той молодежи, которой я был окружен и которая почему-то носит лестный титул «золотой». Какая разница с уходящим уже поколением действительно золотых, великих людей! Борцов!
* * *
— Михаил Юрьевич, ну пусть вы другого толка, — примирительно сказал явившийся к чаю Самарин, сразу приступив к делу. — Но зачем вам эти «Отечественные записки» и этот Краевский, когда вы наш? Печатайтесь в «Москвитянине», вы же москвич и не можете променять нас на холодный Петербург!
— Вы забываете, Юрий Федорович, что я уже и не москвич и не петербуржец. Через четыре дня я еду на Кавказ, а скоро ли вернусь, да и вернусь ли вообще, неизвестно.
— Вернетесь, и скоро, — уверенно ответил Самарин.
— Если бы вы знали, как я мечтаю об отставке и как был бы счастлив вернуться в Москву совсем! Но я уже ни о чем просить не могу. Даже Василий Андреевич Жуковский не может больше помочь, — закончил Лермонтов со вздохом.
Поздним вечером того же дня в доме у Павловых было у него сражение с Погодиным. Добродушный Николай Филиппович веселился, слушая, как все горячее и горячее нападал Лермонтов и как, слабея в неравном бою, отступал Погодин перед этим совсем еще молодым человеком с пламенной душой и зрелой мыслью.
С легкой и острой иронией он так высмеял утверждение Погодина, что цель истории русской — быть хранительницей общественного спокойствия, что даже Каролина Карловна, забыв о своей головной боли, смеялась вместе со всеми.
— Вы должны сдаться, Михаил Петрович, — заявила она Погодину. — Лермонтов побил вас окончательно.
— Ну, голубчик, — сказал Павлов, обнимая Лермонтова, — если вы будете так же сражаться и с чеченцами, им плохо придется!
— Огонь направлять он умеет, это я признаю, — ответил Погодин, прощаясь. — Я на него вот Хомякова напущу. Он ему докажет, что, не в пример Европе, Россия как не знала, так и не будет знать революций!
— А это покажет ее будущая история — ваша «хранительница общественного спокойствия», — сурово сказал Лермонтов. — И может ли быть, чтобы «страна рабов, страна господ», «немытая Россия» не узнала революции?!
— Как, как вы говорите? — встрепенулся Погодин. — Хорошенькое обращение к отчизне: «Немытая Россия»!
— Постойте, Михаил Юрьевич, постойте, — вмешался Павлов. — Мое охотничье чутье подсказывает мне, что «страна рабов, страна господ» — строчки из стихотворения. Если вы его нам не скажете — значит, вы плохой друг.
— Михаил Юрьевич! Мы ждем!..
Лермонтов смеющимися глазами посмотрел на Погодина:
— Прочту, прочту кусочек, но только с тем условием, что Михаил Петрович напечатает его в «Москвитянине».
— Почту за честь, — быстро сказал Погодин. — Давно жду!