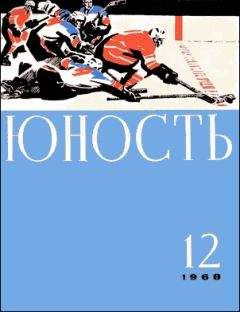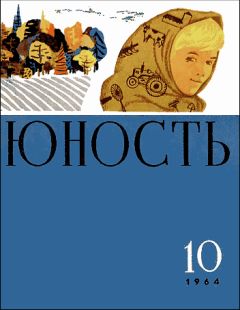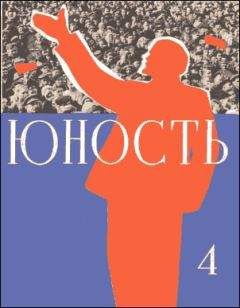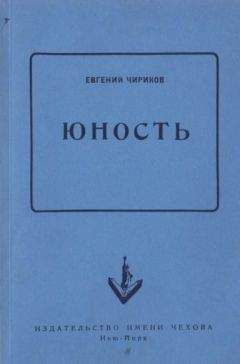бархатная тюбетейка сползла ему на ухо. Он спал, Маканов, и вовсе он не обиделся на нас. Просто с этими юными целинниками еще и не так навоюешься.
То было первое послевоенное лето. Мы жили в пионерлагере под Москвой. Мы вставали на зорьке, собирали гербарий, ходили в турпоход, и казалось, так было всегда — сосны, синеватый, металлический блеск реки сквозь тальник, тихий звон и пчелиное верещание над высокой и чуть влажной травой; казалось, так было всегда и только что ушедшая война — это лишь сон, который ни вспомнить, ни забыть. Только в родительские дни ее темные крыла осеняли пионерлагерь — почти ко всем приезжали матери и ко многим не приезжали отцы…
Страна жила трудно. Но страна посылала своих пионеров в летние лагеря, кормила их как могла, отдавала им скупые, но живительные свои соки.
А мы вбирали эти соки быстро, радостно и торопливо, потому что это были наши первые пионерские каникулы, первые каникулы после войны. Пробивались сквозь сосны, пахнущие горько и терпковато, прозрачные холодноватые рассветы, и тревожно, пронзительно и победно звучал горн, открывая нам дорогу в день, а потом закаты падали в землю, как кометы, и снова наш горн, уставший за день, пел севшим, но все-таки чистым голосом. А горнистом был мой товарищ, Митька Александров из Ленинграда.
Это был высокий мальчик с глазами серыми, приветливыми, но неулыбчивыми, с чистым бледным лицом, с ясным лбом, с нервной и чуть скорбной линией чуть полноватых губ. Был Митька Александров не очень разговорчив, в походы он не ходил, редко купался, а за обедом ему всегда приносили какую-то другую, чем нам, пищу, называвшуюся туманно и пресно: «высококалорийная». Когда мы резались в футбол, он смотрел на нас с тщательно скрываемой и все-таки уловимой печалью.
Однажды он разделся и кинулся в игру, кинулся с азартом и страстью и повел мяч, прерывисто дыша, каким-то удивительным усилием обогнал защитников, с враз заалевшим и почти багровым лицом вырвался к воротам и пробил несильно и точно, а потом вдруг упал, бесшумно, как перерубленная топором тоненькая жердочка, упал, а мы не поняли, решив, что он просто дурачится. И мы играли и кричали: «Пасуй, пасуй!» — а он лежал в траве.
Кто-то из нас подбежал к нему, испуганно крикнул, и тотчас же все сгрудились над ним, подняли его, а один помчался за лагерным врачом. Но он вырвался из наших рук, улыбнулся измученно, виновато и сказал: «Ребята, врача не надо. Мне и так житья не дают. А тут и совсем в комнату загонят». Но его все равно загнали в комнату, и он ходил несколько дней в серой полосатой пижамке и, говорят, совершил несколько попыток к бегству из санчасти.
Вот тогда и мелькнуло это слово, похожее на длинную и безликую рыбу, холодное, непонятное слово: дистрофия.
Но мы не чувствовали к Митьке жалости, мы не могли его жалеть. Он не давал нам жалеть себя. Мы не чувствовали себя сильнее его, даже когда он сидел на берегу в своей полосатой пижаме, а мы лихо заплывали за бакен.
Я не знаю, отчего это происходило — оттого ли, что был он молчалив, но когда говорил, то поражал нас своей памятью и знаниями, оттого ли, что редко врал и хвастал и никогда ничего из себя не выкомаривал, оттого ли, что он был нашим первым горнистом, и горн его не фальшивил и пел не очень сильно, но звонко и чисто, так, что мы замирали… Горн выводил свою песню, и в ней было что-то тревожившее нас, что-то знакомое по старым фильмам о гражданской войне. Может быть, в этом горне звучали атаки, в которые ходили наши отцы.
— Слушай, где ты научился так горнить? — спросил я однажды Митьку. — Расскажи!
— Наш дом в Ленинграде разрушили. Я ушел жить в свою школу, и я жил в пионерской комнате. А школа была пустая, и я очень боялся, особенно вечерами… Мне хотелось с кем-нибудь разговаривать, а разговаривать было не с кем, там еще жила Нила Павловна, наш завуч, но она после бомбежки стала глухая. Вот я брал горн и трубил. Трубил, трубил, а никто моего горна не слышал. А трубил я назло фашистам… Вот так и научился.
Я любил Митьку, я всегда советовался с ним. Однажды, когда я влюбился в нашу пионервожатую Галину Ивановну, или просто Галю, я пришел к нему посоветоваться. Другим людям я бы не сказал об этом. Это было стыдно, неприятно. Стыдно не оттого, что влюбился. Это делали многие из нас. Но они влюблялись в девочек из соседних отрядов, что было нормально и естественно. Я же влюбился ни больше ни меньше в пионервожатую, во взрослого человека — ученицу девятого класса.
Когда я заикнулся об этом одному своему приятелю, тот дико захохотал, схватился за голову и закричал, корчась от язвительного восторга:
— Во дает! Во дает! Ты бы еще в мою бабушку влюбился! Ей как раз шестьдесят!
— Но Галине Ивановне ведь не шестьдесят, а шестнадцать.
— Дурак ты. Это почти одно и то же. Ты же малолетка против нее.
С тех пор я тихо мучился своей тайной и носил ее в сердце, как древний юный спартанец лисицу, которая проела ему все внутренности. Недоступная и прекрасная Галя ходила, ничего не зная об этом, и проводила сборы на темы: «Кем быть?», «Сбор гербария в летние каникулы» и «Как проводить пионерский костер». И она не знала, что во мне, чадя и пуская темные клубы дыма, растет и крепнет всепожирающий костер, отнюдь не похожий на пионерский.
И вот я пошел к Мите, сказал ему обо всем этом, мучительно боясь, что он будет смеяться надо мной. Но ничего подобного не произошло.
— Это случается, — знающе сказал он.
— Как же теперь быть, Митя? Может, написать ей записку?
— Она тебя не поймет. Она может даже подумать, что ты припадочный. Не говори ей ничего. Но ты будь всегда первым.
— Как так «будь всегда первым»? — спросил я.
— Ну, я не знаю, как это объяснить. В начале войны мне понравилась одна девочка, — тихо сказал Митя.
— Да-а… — с удивлением и любопытством сказал я. Такое признание с его стороны было жгуче интересным. И потом, Митька никогда не говорил на такие темы.
— Ну и вот, — сказал он и задумался. —