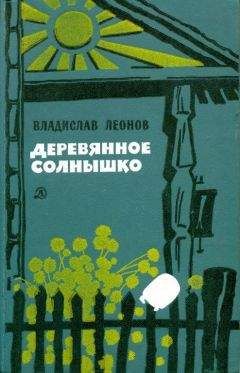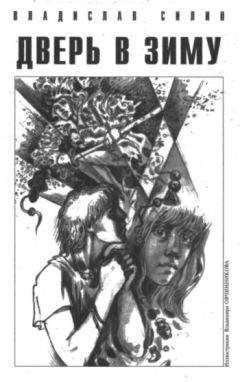«Переката» собрались уже все свои. И Коркин обеими руками размахивал, призывая Саню, и Наташа смотрела на него, застеснявшегося вдруг своей новой формы.
— Я щас, — пробормотал Саня и под окнами конторы дождался своих.
Вышел озабоченный, как всегда, Иван Михайлович, за ним Володя, тоже не очень веселый — верно, разговор был серьезный.
— Пошли, — сказал Володя, как-то рассеянно поглядев на Саню, и тот не сказал спасибо этим людям, хоть сказать надо было обязательно — именно теперь, сразу, пока не обступили его перекатовцы и Коркин не завопил восторженно:
— Ну хорош, хорош, коломенский!
— Красивая форма, — похвалила Наташа и пошла к Ивану Михайловичу с корзинкой, которую тот начал отпихивать.
— Яички же! — растерянно сказала Наташа. — Позабыли мы, по дороге вспомнили — я сбегала! Чудак вы, дядя Ваня! Возьмите!
— Возьми, дядь Вань! — засмеялся Володя и сунул корзинку механику, а Наташу звонко поцеловал в лоб и тут же стал подкидывать визжащего мальчишку лет четырех.
— Не урони! — пугались Гриша-капитан и очень молоденькая женщина — капитанова жена, такая же, как он, тоненькая и ладная.
— Не уроню!
Володя отдал мальчишку счастливому Грише и, ухватив под локоть Саню, пошел знакомить его с коркинскими родителями, с девчонкой Нюрой, рыжей и зеленоглазой, с Наташей — «хорошим человеком», которая смотрела на Володю, как на родного, совсем не так, как смотрела недавно на серьезного дядю Ваню. И Саня понял, что Володя для всех тут свой и близкий и всем легко с ним и просто, — вон даже Карпычева старуха, доселе воровато выглядывающая из-за деревянного сарая, тоже замахала:
— Володь, а Володь, подь-ка к нам!
Карпыч что-то шепнул ей, и старуха опять замахала:
— Саня, а Саня, подь-ка к нам!
— Здрасьте! — медведем поклонился ей Саня, а Карпыч, что сидел ото всех в сторонке и закусывал над разложенной газеткой, поднялся навстречу Володе и Сане и сказал, одергиваясь и роняя с подбородка хлебные крошки:
— Значит, это супружница моя…
— Садитеся, — пропела супружница таким елейным голосом, что ни Сане, ни Володе садиться не захотелось, повернули к общей куче — в ней, в середке, стоял и механик с корзинкой, которая так не шла ему!
— Коломенский! — закричал Коркин. — Давай сюда, к пончикам!
Иван Михайлович не вытерпел беспорядка, сунул корзинку Наташе и дубово встал перед Семкой. Народ затих.
— Коркин! Чтоб я больше не слышал, понял? Нету у нас теперь коломенского, есть котельный машинист-матрос Александр Сергеев! Ясно?
— Ясно! — копнул ногой смущенный Коркин.
Баржи загрузили наконец, подцепили, и «Перекат» напрягся, зашлепал колесами. На берегу словно дожидались последнего мига: бестолково закричали наперебой про огурцы и картошку, про сад и огород — про всякую всячину, которой не место в любом серьезном разговоре, а в прощальном особенно.
— Домой, домой! — крикнул Иван Михайлович провожающим и повернулся к ним квадратной спиной, а к своим — квадратным лицом. — А тут что собрались? По местам!
— Точно, — потер ладони Карпыч. — Все за стол!
Все за стол — не получалось: кто в машину, кто в рубку, кто в кочегарку. Однако при случае и Гриша из своей застекленной будки, и Коркин из кочегарной дыры, и Володя от машины могли вставить слово в разговор за столом, в котором Саня не принимал участия — смотрел на далекий берег, различая там светлую голову Наташи…
— Сергеев! — вернул его на «Перекат» Иван Михайлович. — А мы, между прочим, насчет твоей судьбы думы думаем. Садись!
Саня сел и стал слушать механика, который, оказывается, за него уже все передумал: и где парню учиться осенью, и где плавать на практике летом — только в открытом море, на быстроходных судах, под штормами и ветрами.
Коркин слушал, ежился. И тут вроде неплохо: и речка своя, и берега рядом, и штормов, слава богу, нет.
— Главное, — распинался, похаживая по борту, Иван Михайлович, — есть у тебя хоть и временная, но должность, которую надлежит оправдать.
— Оправдает, — заверил за Саню Карпыч. — Я помогу. Как старшой.
Все почему-то с опаской посмотрели на Карпыча, и Коркин завозился у кочегарки, что-то надумал сказать, да так и не сказал, а Гриша-капитан сухо обронил:
— Ну-ну… Ужинать!
И скрылся в рубке.
— Ешьте пончики! — сказал Коркин, прибежав на минуту и вытряхнув из своей сумки круглые пахучие пончики. — Налетай!
Саня, как и все, принялся жевать их, хрустящие, сладкие, — от одного вида слюни рекой. И народ вслед за Коркиным принялся вываливать все из сумок на общий стол. Иван Михайлович хмурил брови, видно, жалел про яички в кошелке, которые так и не взял у Наташи — застеснялся. Только Карпыч ничего не вывалил: оставил сумки в каюте — может, просто позабыл про них? Саня не больно раздумывал над этим.
— Ешьте! — приглашал он Карпыча, все еще топтавшегося поодаль.
— Ешьте! — Тетя Дуся притащила молока — удобней стало жевать, легче глотать.
Даже Иван Михайлович недолго стоял столбом — зажевал, захрустел, жмурясь. Наконец отвалились, насытились.
— Братцы, ну же! — взмолился Коркин. — Куда я их дену — рыбам?
— Все! — сказал сверху Гриша-капитан. — Объелся.
— И я! — засмеялся Володя. — Лопну.
Иван Михайлович поднатужился, убрал при общем благоговейном молчании еще тройку пончиков и тут же ушел куда-то.
— Ребя-ата, — затянул Коркин от кочегарки.
И Карпыч сжалился над ним. Подошел, раздвигая народ.
— Эх, мелкота!
На глазах изумленных зрителей (как сказал бы Володя) он, почти не жуя, проглотил десятка два пончиков, еще дюжину засунул в карман широких штанов и пошел на свою шлюпку.
— Они ж в масле! — испугался Коркин.
Карпыч похлопал себя по блестящим штанам:
— Масло к маслу не пристает.
Что-то веселый нынче Коркин — с утра рот до ушей! И Карпыч довольный какой-то, даже напевает, заглядывая в топку — мурлычет, словно старый и ободранный кот на солнышке.
— Карпыч, какой праздник? — присел Саня рядом с ним на шлюпке.
Тот повернулся — глаза, как всегда, скрыты под нахлобученным изломанным козырьком.
— Праздник не праздник — получка.
— А, зряплата! — появился на палубе грохочущий башмаками Коркин.
— Как это? — спросил Саня, и Коркин начал было пояснять ему, как глупому:
— Ну, я это к тому, что ничего ты за полмесяца не сделал, а деньги получай — зряплату. Ха…
— Дурак ты! — заорал вдруг Карпыч. — Это ты ни черта не сделал, балаболка! А мы!.. В поте лица своего!.. Тьфу!
— Карпыч, слышь, да ладно тебе, я так, брякнул, — заробел Семка-матрос, глазами умоляя Саню: помоги.
— Прости уж его, Карпыч, — удивился его вспышке Саня. — Ну, сказанул человек, не подумал.
— Думать надо! — отрезал старик и отвернулся. И больше уж не пел.
В каюту