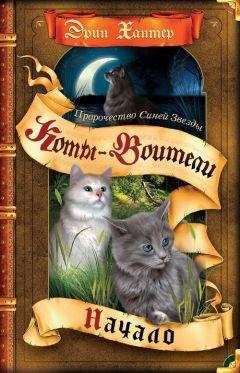Она притянула его за плечи.
— У-у! И настроение у тебя еле-еле на «тройку». Хочешь, обрадую?
Уголек пожал плечами. Чем теперь его обрадуешь?
— Завтра утром поедем на пристань в Верхневольск. Папина самоходка придет на погрузку. Повидаемся с папкой. Рад?
Конечно, он был рад! Так рад, что забыл про свои обиды и про патруль.
И до вечера думал о завтрашней встрече.
Он думал о встрече и в постели и от волнения ворочался на своем узком диванчике.
Это будет чудесно. На пристани, уже у самого причала, он обгонит маму и по упругому трапу — гибкой доске с перекладинами — легко взойдет на крытую железными листами палубу. И зашагает навстречу отцу. Не побежит, а пойдет неторопливо, сдерживая пружинистую радость. И, может быть, только когда останется несколько шагов, он не выдержит и помчится, стуча ботинками по гулкому железу, и прижмется щекой к рукаву потертого синего кителя. От кителя почему-то всегда немного пахнет соленой рыбой и сырым деревом.
И можно будет рассказать про все: про пистоны в дверном замке, про таинственного щенка, про злополучное цирковое представление. И про изгнание… Папа поймет. Он же всегда понимал. Может быть, он даже скажет, что это совсем разные вещи: убежать с арены абсолютно ненастоящего цирка и бросить вахту у настоящего штурвала? Ведь это же, действительно, разные вещи…
Был выключен свет, мама тоже легла спать.
— Мама, откуда он приплывет? — спрашивал в темноте Уголек.
— С севера. Из Салехарда. Спи, пожалуйста. Завтра вставать раным-рано. Автобус в пять утра отходит.
С севера папка приплывет, с большой реки Оби. Может быть, на этот раз он привезет щенка? Хорошего щенка — северную лайку. Раньше все говорил: «Трудно достать, времени нет, стоянки короткие». Может, достал наконец?
Вырастет щенок в большого сильного пса… И однажды над громадными льдинами Арктики загудит, закружится яростный буран. И узнают на зимовках, что у Северного полюса затерялась в снегах экспедиция…
Сквозь белые вихри мчится на лыжах человек. Что ему буран? Сильная собака тянет лыжника к поселку зимовщиков. Она, как компас, знает дорогу. С ней не страшно.
Вдруг собака свернула в сторону.
— Ты что, Снежок?
Сквозь вихри бурана проступает темное пятно, это вездеход. Укрывшись от ветра за гусеницей, лежит в снегу обессилевший человек.
— Вы кто?
— Начальник экспедиции Селиванов, — шепчет он обмороженными губами.
— Толик?!
А помнишь, Толик, как ты сказал тогда на поляне, чтобы я уходил?
Помнишь, как разрешил отобрать мой охотничий топор? Кто из нас был предатель?
Может быть, за это не спасать его теперь? Нет, все равно надо спасать.
Пусть потом всю жизнь Толика Селиванова мучает совесть…
— Пусть она тебя мучает, — шепчет Толик, подняв заиндевелые ресницы. — Ну и не спасай. Все равно ты предатель. Из-за тебя Митька Шумихин разломал штаб патруля и разграбил его. Ты знал и молчал. А я-то думал, ты человек…
— Боря, будешь ты спать?! Чего ты крутишься?
Маму разбудил скрип диванных пружин.
Конечно, он будет спать. Он считал, что не спят люди, у которых нечистая совесть. А у него совесть спокойная. Ну и пусть он сорвал весь цирк, он не нарочно. Просто не подумал сразу. А тут еще эти сапоги. Сами подсунули Угольку эти сапоги, а потом кричат: предатель.
Ничего, он все равно будет спать. А не спит пусть Курилыч. У него на совести много загубленных березок. Он откручивал ветки, и лопалась тонкая кожица коры, и белые волокна рвались, как нитки. Ничего, теперь он узнает! Дадут ему жизни!.. А как ему дадут, если у ребят разломают шалаш? Где они будут штаб устраивать? А разве можно лесному патрулю без штаба?… Все равно сами виноваты.
— Мама, что такое совесть?
— О-О! Наказание мое! Это то, чего у тебя ни капельки нет. Заснешь ты, бессовестное чудище? Или я встану сейчас…
— Мне здесь не спится. Я в кухне на раскладушке лягу.
— Ради бога. Хоть на чердаке.
Но и на кухне ему не спалось. Где ни ложись, а все равно завтра шалаш разрушат. А в шалаше копья и каменные топоры — оружие. Может быть, какие-нибудь документы их тайные, планы, как ловить всяких, вроде Курилыча. А вдруг там и Витькин фотоаппарат хранится? Мать Мушкетера аппарат все время от него прячет, говорит: вещь дорогая, сломается.
Мушкетер вполне может его заранее из дома утащить в штаб. А если Митька Шумихин доберется, от аппарата отдельные детальки останутся! А Уголек все знает и молчит. Толик, конечно, сказал бы, что это предательство.
Ну, а что делать? Завтра утром рано-рано он уедет, а днем Митька нападет на штаб патруля. А сейчас уже все спят. Все равно ничего никому не скажешь, ничего не сделаешь. Ничего.
Ну, уж это ты врешь, Уголек. Сам знаешь, что врешь. Ну, вставай. Раз уж появилась такая мысль, все равно встанешь. Ты же упрямый. Прикусишь губу и встанешь. Вот так…
Он встал. В кухне было светло от луны. Он натянул штаны и ковбойку.
Хорошо, что догадался прихватить их из комнаты. В кармане отыскался карандашик. Он был синий, но это не беда. А в шкафу Уголек нашел бумажную салфетку…
Уголек взял в руки сандалии. Потом вытащил из-за шкафа каменный топор.
Луна светила, как прожектор, но лес оставался темным. Он поднимался на склоне туманной стеной.
Неужели туда надо идти?! Уголек передернул плечами.
Ночь была свежей. Уголек вздрагивал и шел вверх по склону. На открытом месте он еще не очень боялся.
Выступили из сумрака отдельные березки, смутно белели их тоненькие стволы. И вот уже опушка. А дальше темнота.
Уголек тихо постоял и хотел уйти. Домой. Он боялся. Ну и что? Он не взрослый. Это взрослые не боятся ночных дорог… Да и то не все.
Но он глубоко вздохнул и раздвинул ветки. Вверху было светлое зеленое небо, а кругом обступила темнота. В ней жили черные лохматые кусты.
Они угрожающе шептались. Подбирались вплотную. Листья, как холодные пальцы, прикасались к лицу. Шуршала под ногами трава. Уголек шел медленно, чтобы не нарушить покой того страшного, кто мог скрываться во мраке.
— Ты дурак, — шептал он себе. — Ведь нет никого кругом. Кого бояться?
Но страх не проходил. В Угольке все напряглось. Будто сотни струнок натянули до отказа. Если бы сейчас затрещали ветки или кто-нибудь вышел бы навстречу, Уголек рванулся бы куда глаза глядят, ничего не помня от страха.
Наконец он миновал березняк. И теперь кусты, которые остались позади, показались ему не страшными и уютными.
А впереди поднимался корабельный лес. Он был просвечен кое-где лунным зеленым светом. Звенела тишина.
Уголек перехватил покрепче топор и съежился. И шагнул от кустов.
Рваные светлые полосы падали на траву от луны. Уголек шагал поперек этих полос. Он смотрел только на них. По сторонам не решался смотреть, вдруг что-нибудь черное и мохнатое шевельнется среди стволов? И протянет длинную лапу! Разве убежишь от этой лапы?
Надо смотреть только на лунные полосы. И чтобы не думать о страшном, лучше считать шаги. Все равно приходится высоко поднимать ноги, чтобы трава не шелестела на весь лес и не царапалась. Раз. Два. Три…
Луна катилась над верхушками сосен, провожала Уголька. Он решился поднять глаза и взглянул на нее. Луна была такой же, как всегда. знакомой. Угольку даже показалось, что до нее ближе, чем до дома.
Фигурка щенка темнела на лунном круге. Будто живой щенок. Вот бы вместе с ним пробежаться по тропинкам среди лунных скал! Только есть ли там тропинки?
И вспомнилась хорошая песенка. Уголек считал шаги, а песенка тихонько звенела в ушах.
На пыльных тропинках
Далеких планет
Останутся наши следы…
Когда Уголек сделал триста пятнадцать шагов, он добрался до шалаша…
На обратном пути он не очень боялся. Конечно, лес молчал все так же загадочно, и лунные полосы стелились по траве. Но большого страха не осталось. Осталась настороженность. А в голове крутилась песенка о далеких планетах. Уголек даже напевать ее начал, когда подошел к кустам.
И черные кусты, наверно, решили отомстить мальчишке за дерзость.
Уголек вышел на поляну. И тут его будто ударило током!
Низко у земли, из кустов, смотрели два тусклых белесых глаза!
В первую секунду Уголек не мог двинуться. А потом почувствовал: если бежать, оно обязательно кинется следом.
Боком, тихо-тихо, Уголек начал отступать к кустам. Глаза не двигались.
Не шевелились, не моргали, но и не гасли.
Уголек остановился. Было страшно стоять. Но уйти и не узнать, чьи там глаза, было тоже страшно.
В голове прыгали коротенькие перепутанные мысли. А сквозь них все равно пробивалась песенка о тропинках на дальних планетах. Пробивалась сама по себе, как ручеек сквозь снег. Ведь бывает, что какие-то слова или мотив привяжутся и вертятся в голове в самые неподходящие моменты.