Стук в дверь, внутрь проскользнула мама. В руке кусочек шоколадки.
Улыбнулась:
— Пластилин! Помнишь, как он тебе когда-то нравился?
— Нет, — говорю. — Ну, вернее, не очень.
Она понюхала кусочек:
— Прямо назад в прошлое. Помнишь, у нас по всему дому стояли всякие зверюшки?
— Не знаю.
— Значит, забыл. Может, вниз пойдешь?
— Не знаю.
Она обняла меня.
— Прости, мам, — говорю.
— С девочкой чего не так?
— Нет. Не знаю, мам.
— Или, может, с Джорди?
— С Джорди!
Рассмеялась тихонько и дала мне еще шоколада:
— Как бы то ни было, не очень-то приятно, когда любимый человечек вот так на тебя набрасывается.
— Знаю. Я…
Мама положила палец мне на губы:
— Да ладно. Перед папой тоже извинись — и все, забыли.
Я пошел с ней вниз и извинился перед папой, и он тоже сказал — все, забыли, но ничего на этом не кончилось. Ночь я провел без сна, лепил всяких существ, выдыхал на них молитвы, заклятия и приказы, а луна светила на меня сверху. Открыть медальон, воспользоваться силой тела и плоти я не решался. Никто так и не шевельнулся до четырех утра. «Шевельнись, пожалуйста», — прошептал я, и кусочек пластилина вроде бы действительно шевельнулся, вроде бы дернулся у меня на ладони, но я к тому времени отчаянно боролся со сном, и, может, мне это просто приснилось, а может, я получил еще один знак, что схожу с ума.
— Она тебя бросит, — говорит Фрэнсис.
Мы с ней столкнулись в коридоре, когда шли на урок к Трёпу. Пятница, урок этот был последним.
— Кто?
— Мэрилин Монро. Сам сообрази. Ты нас не видел, что ли?
Я пожал плечами.
— Видел, но сделал вид, что ослеп и оглох, скотина, — говорит Фрэнсис. — Зачем ей сдался парень, который не обращает на нее внимания, а потом весь день ходит как лунатик?
— Не знаю.
— Не знаю! Вот, этим все сказано. — И как ткнет меня в ребра. — Слушай, что с тобой такое? Ты что, не видишь, какая она прелесть? Что там у тебя в дурной башке?
Я хотел сказать «не знаю», но не стал.
Фрэнсис щелкнула пальцами у меня под носом:
— Ку-ку! Ку-ку! Есть кто дома?
Я пожал плечами.
Она головой тряхнула:
— Все, достукался. Я ей так и скажу: бросай его.
— Ну и пусть бросает!
— И бросит. Тратить время на такого тюфяка!
И чуть не бегом дальше. Мария уже сидела в классе. Когда я вошел, Фрэнсис что-то шипела ей в ухо и размахивала руками. Обе захихикали. Посмотрели на меня, потом отвернулись, скорчили рожи, фыркнули. Я сел рядом с Джорди. Он отодвинулся вместе со стулом.
— Рассаживайтесь! — говорит Трёп.
Он посмотрел в какие-то записи:
— Так, на чем я остановился?
— На своей жопе, — бурчит Джорди.
— Ага! — говорит Трёп. — Глина!
Вытянул руку, а в ней глиняная кругляшка.
— Простейшая вещь на свете, — сказал Трёп. — Шматок грязи. Мягкая, мерзкая, липкая, вязкая, текучая, бесформенная. А может, нас к ней так тянет потому, что она напоминает нам нас самих — нашу человеческую мерзостность и бесформенность?
Помолчал. Обвел класс взглядом.
— Мерзостность, — говорит. — Что, правда? Можем ли мы употребить это слово применительно к самим себе?
Все молчат.
Фрэнсис посмотрела на меня. Кивнула.
— Ты хочешь сказать — да?
— Да, сэр, — говорит Фрэнсис.
— При этом есть люди, — продолжает Трёп, — которые утверждают, что мы полная противоположность грязи, что мы возвышенны и одухотворенны. Правда ли это? Кто так думает? Кто думает… — И дальше совсем тихо: — Что мы — ангелы?
Джорди поднял руку:
— Я, сэр.
— Спасибо, Джорди, — говорит Трёп. — Я и сам часто такое про тебя думал. Но… — Тут он распахнул глаза и поднял палец, как делал всегда, когда ему казалось, что он изрекает что-то страшно умное. — А может, верно то, что истина где-то посередине? Может, верно то, что мы и то и другое? Мы мерзостны, но мы и одухотворенны? Кто с этим согласен?
— Я, сэр, — пробормотало несколько голосов.
— Великолепно! Что ж, двинемся дальше. Может, нам так нравится лепить из глины потому, что при этом видно, как акт творения может…
— Завелся, чтоб его, — бормочет Джорди. — Сколько можно?
Трёп все тараторит. Расхаживает перед нами, закрыв глаза, постукивает себя пальцами по вискам, таращится на небо за окном.
Джорди на меня смотрит. Потом взял и нацарапал что-то на листочке:
«Череп это про что? Хрень с поцелуем».
— Чего? — спросил я шепотом.
Он опять пишет:
«Поцелуй. Обжиманки».
Смотрит на меня. На лице ухмылка. Я щелкнул языком, скорчил рожу. Он закатил глаза и губы в трубочку, будто для поцелуя. Я начал было сочинять записку в ответ, но не знал, что написать.
Наконец получилось:
«Отвали».
Он сделал вид, что страшно удивился.
— Джорди, у тебя все в порядке? — оборвал себя Трёп.
— Да, сэр.
— Вот и прекрасно. А то мне на миг привиделось, что мои слова вызвали у тебя какой-то отклик.
— Нет, что вы, сэр.
— Вот и прекрасно.
Трёп вскинул руку и перехватил в воздухе брошенную кем-то мармеладку. Сунул ее в рот.
— Иногда, — говорит, — я задаюсь вопросом: «Зачем я им все это рассказываю? Зачем мне это надо?»
— Потому что ты козел, — бормочет Джорди.
— Но я не позволяю себе пасть духом. Я говорю себе: «Но ведь есть же и те, кто тебя слушает, Питер Патрик Паркер, они всегда были и всегда будут. А потому!..» Кстати, чьи мармеладки?
— Мои, сэр, — сказал Джимми Кей.
— Тогда можно мне еще одну, Джеймс, дабы подкормить поток моих слов? Красную, если есть.
Джимми бросил ему мармеладку, Трёп поймал, пожевал, поехал дальше.
— А может ли быть, — говорит, — что в этом комке глины мы видим тело без души и это вдохновляет нас на…
— Козел, — повторил Джорди.
«Поцелуй, — написал. — Дейви и Стивен Роуз…»
Я прочитал. Выкатил ему губу. Он нацарапал еще одну записочку, свернул, бросил Фрэнсис и Марии. Развернула Фрэнсис. Прижала руку к губам. Хрюкнула. Хихикнула.
— И-и-и-и! — сказала и передала записку Марии.
Мария наморщила лоб. Посмотрела на меня. В глазах — ничего, но тут Фрэнсис толкнула ее локтем, что-то еще прошептала в ухо, и Мария тоже захихикала.
Трёп все разливается.
— И-и-и-и! — сказала Фрэнсис.
— Да, мисс Мэлоун? — говорит Трёп.
— Э… сэр, — говорит Фрэнсис, — это очень… ну…
— Непостижимо? — подсказывает Трёп.
— Да, сэр, — говорит Фрэнсис.
— И даже страшно?
— Да, сэр.
— Согласен. Сама мысль, что нам, возможно, суждено возвратиться в землю. Мысль, что мы можем стать твердыми, тяжелыми, однородными, игрушками в руках нашего творца…
— Просто кошмар какой-то, сэр, — сказала Фрэнсис.
— Вот именно, — подтвердил Трёп.
— Ужас, — сказала Фрэнсис. И хихикнула. — Безобразие, стыд, позор, — сказала Фрэнсис. — И Мария тоже так думает.
— Правда? — спросил Трёп.
Фрэнсис ее в бок толкнула.
— Да, безусловно, сэр, — сказала Мария.
Трёп так и засиял.
— Это всего лишь концепция, — сказал он. — Вероятность. — Положил ладони на их парту, наклонился. — Я очень рад, что заставил вас думать.
— Да, сэр, мы вовсю думаем, — сказала Мария.
— И-и-и-и! — сказала Фрэнсис. Выкатила глаза в мою сторону. — И-и-и! И-и-и-и-и!
Потом, когда все вышли в коридор, я просто попытался сбежать. Но за спиной у меня в коридоре хихикали девчонки. Джорди их подзуживал. Я обернулся, зыркнул на них. Джорди пискнул — ой, как, мол, страшно.
— Пошел ты, — говорю.
Попытался посмотреть Марии в глаза. Хотелось сказать ей: «Ты вспомни, как мы вместе сидели в каменоломне». Хотелось сказать Джорди: «Ведь ты всегда был моим лучшим другом». Но Мария только хихикала и в глаза не смотрела. Джорди осклабился. Я сжал кулаки. Джорди махнул рукой — ну, поехали.
— Давай, — говорит. — Поглядим, кто кого.
Я заколебался.
— Давай-давай, — говорит. — Или чего? Струсил?
Я бросился на него, и началась драка, и вокруг собралась целая толпа, они орали и скандировали:
— Бей его! Бей! Бей его! Бей!
Джорди двинул мне в солнечное сплетение, дыхание перехватило, но я устоял. Выбросил кулак, попал ему по носу, хлынула кровь. Он пискнул и ринулся на меня. Я схватил его за горло. Мы рухнули на пол, кряхтим, кричим, ругаемся.
— Падла! — выкрикиваем по очереди. — Змея подколодная!
Тут примчался Трёп — орет, чтобы мы прекратили. Я высвободился, встал. Нагнулся к Джорди, проревел:
— Ненавижу тебя!
И бегом прочь.
Выходя из школы, я плюнул на землю. Проклял их всех. Череп сидел на скамейке у кладбища, неподалеку от «Лебедя». Пьяный, полусонный — беспомощный ком. Я подошел ближе. Он глянул на меня остекленелыми глазами. Похоже, не признал.


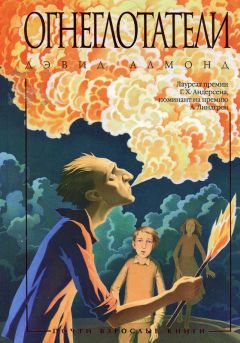

![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)
