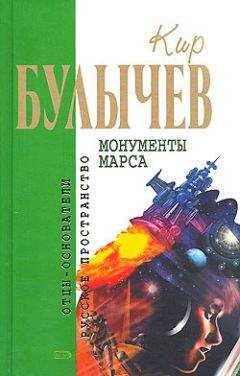– Доброе утро, – поздоровался отец Лины, спускаясь в сад. – Вы сегодня совсем здоровы. Я рад.
– Все-таки я прав, – сказал я тихо Лине, прежде чем последовать за ее отцом.
– Зачем читать мысли? – повторила она. – У вас все на лице написано.
– Все?
– Даже слишком много.
Прошло несколько дней. Днем я работал, а вечером бродил по городу, выбирался в поля, в лес, к берегу большого соленого озера, в котором водились панцирные рыбы. Иногда я был один, иногда с Линой. Я привык к моим хозяевам, познакомился еще с двумя или тремя инженерами. Но при всей обычности моего существования меня ни на минуту не оставляло ощущение действительной необычности окружающих людей. Я почти уверился в их способности к телепатии.
Порой я чувствовал себя неловко с Линой, потому что ловил себя на какой-нибудь мысли, которой не хотел бы делиться с ней. Мне казалось, что она слышит беззвучные слова и посмеивается надо мной.
Раз я шел по улице. Улица была зеленой и извилистой, как почти все улицы в том городе. Передо мной шли мальчишки. Они гнали мяч, а я шел сзади, смотрел и боролся с желанием догнать их и ударить по мячу.
Я не заметил торчащего из земли корня. Споткнулся, упал, ушибся коленом о камень, и боль была так неожиданна и резка, что я вскрикнул. Мальчишки остановились, будто мой крик ударил их. Мяч одиноко катился под откос, а они забыли о нем, обернулись ко мне. Я попытался улыбнуться и помахал им рукой – идите, мол, дальше, догоняйте свой мячик, пустяки, мне совсем не больно. А они стояли и смотрели.
Я приподнялся, но встать не смог. Видно, растянул сухожилие. Мальчишки подбежали ко мне. Один, постарше, спросил:
– Вам очень больно?
– Нет, не очень.
– Я сбегаю за врачом, – предложил другой.
– Беги, – кивнул старший. – Мы подождем здесь, пока ты вернешься.
– Да что вы, ребята, – сказал я. – Растянул сухожилие. С кем не бывает? Сейчас пройдет.
– Конечно, – подтвердил старший.
И, как будто послушавшись его, боль ослабла, спряталась.
Мальчишки смотрели на меня серьезно, молчали. Только самый маленький вдруг заплакал, и старший сказал ему:
– Беги домой.
Тот убежал.
Подошел врач. Он жил, оказывается, в соседнем доме. Осмотрел ногу, сделал укол, и мальчишки сразу исчезли, лишь стук мяча еще некоторое время напоминал о них.
Врач помог мне добраться до дома. Я отказывался, уверял его, что дойду и сам.
– Мне уже не больно. Больно было только в первый момент. Мальчики могли бы подтвердить.
– Вы гость у нас? – спросил врач.
– Да.
– Тогда понятно, – сказал он.
Дома, несмотря на ранний час, все были в сборе. Бабушке стало хуже. Настолько, что надо было срочно везти ее в больницу, оперировать.
Я подошел к Лине. Она была бледна, под глазами синяки, лоб морщился.
– Все обойдется, все будет хорошо, – сказал я.
Она не сразу расслышала. Оглянулась, будто не узнала.
– Все обойдется, – повторил я.
– Спасибо. Вы упали?
– Ничего страшного. Уже не больно.
– А бабушке очень больно.
– А почему ей не сделают укол? На меня он подействовал сразу.
– Нельзя. Уже ничего не помогает.
– Я хотел бы быть чем-нибудь полезен.
– Тогда уйдите. – Она произнесла это, явно не желая меня обидеть. Ровным, бесцветным голосом, будто попросила принести воды. – Отойдите подальше. Вы мешаете.
Я ушел в сад. Я был лишним. Я и в самом деле старался не обижаться. Ей ведь плохо. Им всем плохо.
Я видел, как они уехали. Я остался один в доме. Поднялся наверх, в зоопарк. Кошка узнала меня, подошла к сетке и потерлась о нее, выгибая хвост. Домашним кошкам не положено жить в клетках, но она была здесь экзотическим, редким зверем. Я тоже был редким зверем, который не понимал происходящего и не мог рассчитывать на понимание. А ведь мне казалось, что мы с этими людьми стали близки. Моя неполноценность обнаружилась в неподходящий момент, но в чем неполноценность? Я понимал, что надо поехать в больницу, – там я узнаю нечто важное. Никто не звал меня туда, и, вернее всего, мое присутствие будет нежелательным. И все-таки я не мог не поехать.
Меня никто не остановил у входа в больницу. Лишь девушка у серого пульта спросила, не помочь ли мне. Я назвал имя бабушки, и девушка проводила меня до лифта.
Я шел по длинному коридору, странному, совсем не больничному коридору. Вдоль стен его стояли кресла, вплотную друг к другу. В креслах сидели люди. Они были здоровы, совершенно здоровы. Они сидели и молчали, и им было больно.
У матовой двери в операционную я увидел моих друзей. И Лину, и ее отца, и братьев. Тут же, в соседних креслах, сидели наши общие знакомые – те, кто работал вместе с нами, жил рядом. Лина взглянула на меня. Зрачки ее скользнули по моему лицу. И в них была боль.
Я опустился в свободное кресло. Неловко было рассматривать людей, которым до меня нет дела. Я уже знал то, что казалось тайной час назад.
Ждать пришлось недолго. Неожиданно, словно невидимый колдун провел над ними ладонью, они ожили, просветлели, зашевелились. Кто-то сказал: «Дали наркоз». Они договорились, кто останется дежурить здесь, кто вернется после операции, когда наркоз перестанет действовать.
Лина подошла ко мне. Я встал.
– Извините, – сказала она. – Я очень виновата, но вы же понимаете…
– Понимаю. Как же я могу сердиться? Мне только грустно, что я чужой.
– Не надо. Вы ведь не виноваты.
– Знаете, когда я сегодня упал, ко мне подбежали ребята. И оставались рядом, пока не пришел доктор.
– А как же иначе?
К нам подошел ее отец.
– Спасибо, что вы пришли, – сказал он. – Захватите, пожалуйста, с собой Лину. Мы тут без нее справимся. Профессор уверил меня, что операция пройдет удачно.
– Я останусь, отец, – возразила Лина.
– Как знаешь.
– Поймите, – сказала Лина, когда отец отошел. – Очень трудно было бы объяснить все с самого начала. Для нас это так же естественно, как есть, пить, спать. Детей учат этому с первых дней жизни.
– Это всегда так было?
– Нет. Мы научились этому несколько поколений назад. Но потенциально это было всегда. Может, и в вас тоже, скрытое в глубине мозга. Даже странно думать, что другие миры лишены этого. Ведь в каждом разумном существе живет желание обладать такой способностью. Неужели нет?
– Да, – подтвердил я. – Если рядом с тобой человеку плохо. Особенно если плохо близкому человеку. Хочется разделить боль.
– И не только боль, – возразила Лина. – Радость тоже. А помнишь первый день? Когда ты прилетел? Ты себя гадко чувствовал. Отец мало чем мог тебе помочь – основной груз бабушкиной боли падает на него, он сын. Даже встречая тебя на космодроме, он должен был помогать бабушке. А это тем труднее, чем дальше ты от человека, которому помогаешь. А тебе показалось, что отец невежлив. Правда?
– Не совсем, но…
– А ведь ему пришлось еще взять на себя и твою дурноту. Ты гость. И у тебя болела голова.
– Жутко болела.
– Я просто удивляюсь, как отец доехал до дома. И он сразу сменил меня у бабушкиной постели. Я увидела тебя в окно, и ты мне понравился. Я оставалась с тобой весь день, и весь день из-за тебя у меня разламывалась голова.
– Прости, – сказал я. – Я же не знал.
Я подумал, что именно сейчас, в больнице, мы незаметно перешли на «ты». Наверное, следовало бы сделать это раньше.
– Прости, – повторил я.
– Но ведь так даже лучше. Представляю, как бы ты расстроился, узнав об этом.
– Я бы уехал.
– Я знаю. Хорошо, что ты не уехал. А теперь иди. Я вернусь утром. И постучу к тебе в дверь. Мы договорим.
Я вновь миновал длинный коридор больницы, где сидели родственники и друзья тех, кому плохо. Они пришли сюда, чтобы разделить боль других людей. И не было никакой телепатии. Просто люди знали, что нужны друг другу.
Я добрел до дому пешком. Чуть побаливала нога, но я старался не думать о боли. Иногда она возникала и пыталась овладеть мною. И тот из прохожих, кто оказывался ко мне ближе всех, оглядывался, смотрел на меня, и мне сразу становилось легче. Но я прибавлял шагу, чтобы не утруждать людей.
Мне встретились молодые женщины. Они несли по большой охапке цветов. Они смеялись, болтая о чем-то веселом. Женщины увидели мою постную физиономию и наградили меня своей радостью. Чужая радость обдала меня душистыми свежими брызгами. Старик, сидевший на лавочке, опершись о трость, подарил мне спокойствие. Так бывало со мной и раньше, но я не замечал связи между своими ощущениями и другими людьми.
Им и труднее, и легче жить, чем нам. Они могут дарить и принимать дары, вернее – должны. Ни один из них не может отгородиться от людей потому, что если мы видим человеческие слезы, то они чувствуют их. А ведь зрение куда менее совершенно.
В тот день я стал завистником. Я завидую им и даже порой чувствую к ним нечто вроде неприязни. Я всегда буду чужим для них, как нищий среди щедрых богачей. Я могу принимать дары, но не способен дарить сам.