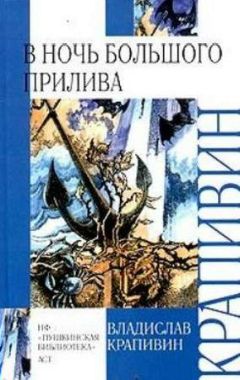— Пфе, — сказал он. И шлепнул по животу, чтобы рыжий разбойник Митька сидел спокойно.
Я не виноват, я не хотел этого. Я убеждал себя, что непростительно забивать голову сказками. Говорил себе: “Ты взрослый человек, у тебя серьезная работа. Думай о ней”. И думал о работе. Целыми днями. Но по утрам, сам того не желая, пытался собрать в памяти обрывки сновидений.
Нет, Северо-Подольская крепость мне больше не снилась. Снился залив под желтым закатом и зализанный ветрами песчаный плоский берег. На берегу стояли каменные арки, а под ними висели сигнальные колокола — разных размеров. Заметно было, что колокола заброшены: у многих не было языков. Из песка торчали высокие травинки, и ветер пригибал их.
Еще я видел солнечные, но совершенно пустые улицы незнакомого города. А еще — внутренность круглых крепостных башен. По вогнутым стенам вились полуразбитые каменные лестницы. В узкие окна били пыльные полуденные лучи. Из поржавевших железных скоб срывались и падали погасшие факелы.
…Тех двоих я ни разу больше не видел. Но на берегу, на пустых улицах, на стертых ступенях лестниц я чувствовал: они только что были здесь. Я даже пытался найти, догнать их. И знал, что еще чуть-чуть — и догоню. Но не мог. И было очень горько. Я в этих снах был мальчишкой и не стеснялся плакать…
Нелепо тосковать по людям, которых никогда не было, которые однажды просто приснились. Но я тосковал по Валерке и Братику.
И ведь никому не расскажешь! Разве что Володьке… Но Володька — он разный. Иногда ласковый, тихий и все понимает. А иногда вдруг станет вредным таким и насмешливым. И не поймешь отчего…
И все же Володька был единственным человеком, который меня мог бы понять.
Мы с ним познакомились три года назад.
Я перепечатывал на машинке статью для журнала “Театральная жизнь”. Печатал я тогда плохо, работа надоела, я лениво давил на клавиши. В это время постучали.
Я неласково сказал: “Войдите”.
На пороге возникло лохматое, но симпатичное существо ростом чуть повыше спинки стула. С тонкой шеей, оттопыренными ушами и глазищами цвета густого чая. Одето оно было в мальчишечью школьную форму, крайне для него большую.
— Это вы все время тюкаете? — строго спросил гость.
— Что значит “тюкаете”? — слегка обиделся я.
Не отводя внимательного взгляда, мальчишка объяснил:
— Я внизу живу. А наверху каждый день: “тюк” да “тюк”, “тюк” да “тюк”. Будто клюет кто-то…
— Это машинка стучит, — объяснил я. — Печатаю. Работа такая. А что, мешаю?
— Да нет, тюкайте, — великодушно разрешил гость и добавил: — Просто интересно. А вы кем работаете?
— Я зав. литературной частью. Проще говоря, литературный директор.
Что-то вроде уважения мелькнуло у мальчишки в глазах. Он попытался незаметно подтянуть штаны и спросил:
— В какой школе?
— Почему в школе…
— В нашей школе исторический директор, — объяснил гость. — Он пятиклассников истории учит. У Витьки — ботаническая директорша. А вы в какой школе? Вы литературу преподаете?
Слово “преподаете” он произнес с солидностью человека, уже посвященного в премудрости школьной жизни.
Я сообщил, что работаю не в школе, а в Театре юного зрителя, отвечаю за то, как написаны пьесы.
— У-у… — сказал он. — А я думал, что в театре все люди артисты.
Я терпеливо объяснил, что в театрах много работников с разными профессиями.
— Но артисты все же самые главные? — спросил он. — Или вы главнее?
Набравшись нахальства, я сказал, что главнее: артистов много, а я один.
Он кивнул, помолчал и задал новый вопрос:
— А вы были артистом? Или сразу стали директором?
— Был.
— А кто главнее: литературный директор или знаменитый народный артист?
“Вот зануда”, — подумал я и ответил, что народный, пожалуй, главнее.
— А вы почему не стали народным? — поинтересовался он, глядя ясными янтарными глазами.
“Иди ты знаешь куда…” — чуть не сказал я и мрачно признался:
— Не получилось.
— Бывает, — посочувствовал он.
— Просто мне расхотелось играть, — заступился я за себя. — Я решил сам писать пьесы.
— Получается? — серьезно спросил мальчишка.
— Получается, — соврал я.
Он вежливо сделал вид, что поверил. Опять кивнул и посмотрел на машинку.
— А как вы печатаете?
— Проходи, — сказал я. — Что за разговор у порога… Тебя как зовут?
Он сообщил, что зовут его Володькой, скинул у дверей полуботинки и, бултыхаясь в своей форме, как одинокая горошина в кульке, подошел к столу. Забрался с ногами в мое кресло. Оглянулся на меня.
— Можно, я потюкаю?
Я с тайной радостью (есть причина не работать) вытащил недопечатанный лист и вставил чистый.
— Смотри, я покажу, как надо…
— Знаешь, я все привык делать сам, — доверительно сообщил Володька. — Я разберусь.
И он, в самом деле, быстро разобрался (правда, потом пришлось менять клавишу с буквой “ы”).
На другой день Володьку заинтересовала моя спортивная шпага (он выволок ее из-за шкафа).
— Это настоящая? — спросил он, и глаза у него сделались светлыми, золотистыми.
— Вполне, — сказал я.
— И ты умеешь сражаться?
— Конечно, — гордо ответил я. И объяснил, что в театральном училище нам преподавали фехтование, а кроме того, я занимался в спортивной секции. Один раз даже занял третье место в областной олимпиаде.
— Врешь! — восторженно сказал он.
Конечно, он просто не сдержался. И все же я решил поставить юного гостя на место.
— Во-первых, не вру. У меня диплом есть! А во-вторых, с чего это вы, сударь, начали говорить мне “ты”? Я взрослый человек.
Этот тип уселся на диван, поставил клинок между колен, прижался щекой к рукояти и задумчиво уставился на меня.
— Какой же ты взрослый? Взрослые не такие.
— А какие?
— Ну… они важные. У них жены, дети.
— Подумаешь… У меня тоже скоро будет жена. У меня невеста есть.
— А где она? — подозрительно спросил Володька.
— В Москве, в аспирантуре, — сказал я и вздохнул, вспомнив Галку.
Володька подумал и сообщил, что невеста — это не считается.
— У меня было две невесты. Одна в детском саду в меня влюбилась, а одна недавно, в сентябре. Записки писала. Печатными буквами.
— Ну, ты даешь… — только и сказал я.
— Можно, я потренируюсь шпагой?
— Тренируйся, но не шуми. Я хотя, по-твоему, не взрослый, а должен работать.
Мы подружились. Володька подрастал, перешел во второй класс, в третий, в четвертый… И почти каждый день приходил ко мне в гости. А если уезжал в лагерь или к дедушке, я скучал.
Иногда Володька печатал на моей машинке странные слова и говорил, что это названия планет, про которые он придумывает сказки. Иногда притыкался рядом и шепотом рассказывал, какую картину нарисует, когда совсем вырастет. Это будет грустная картина: кругом море, посередине маленький остров, а на острове одинокая, брошенная собака. Чтобы все поняли, что нельзя бросать собак. А еще будет картина “Девочка на дельтоплане”. Это та девочка, которая в первом классе писала ему печатными буквами записки. (“Только ты никому не говори, ладно?”)
А иногда в милого Володеньку словно бес залазил. Он начинал язвить. Чаще всего этот субъект потешался, что я считаю себя взрослым. Он заявлял, что взрослые не собирают картинки с парусными кораблями и не читают детских книжек. Взрослые не бегают с мальчишками на рыбалку и не строят игрушечные пароходы (сам подбивает меня на такие дела, а потом ехидничает!). Кроме того, взрослые умеют завязывать галстуки и не ужинают консервами из морской капусты.
Я злился и не знал, что возразить. Тем более что Галка не вернулась из Москвы, она вышла там замуж за солидного кандидата наук.
Но ссорились мы с Володькой редко. Зимой мы вместе катались на лыжах, а летом ходили купаться на большой пруд недалеко от дома.
Купались мы и в те дни, с которых я начал рассказ. Только мне было невесело и неспокойно. Володька смотрел на меня, и глаза его темнели.
— Ну, ты чего? — спрашивал он. — Чего ты такой?
— Устал, — говорил я.
— Ты же в отпуске.
— Пьесу переделываю. Не получается. Вот и устал.
— У тебя и раньше не получалось, а ты был веселый…
Я страдал из-за себя, а он из-за меня. Разве он виноват? “Расскажу”, — решил я наконец. И решив так, немного успокоился.
Но раз я повеселел, повеселел и Володька. В то утро мы опять пошли купаться, и он прыгал вокруг меня, как танцующий аистенок. И уже пару раз высказался в том смысле, что небритый подбородок — не доказательство взрослости, а всего только признак неаккуратности. Лишь когда повстречалась некая Женя Девяткина десяти с половиной лет, Володька слегка присмирел, порозовел и глянул на меня опасливо.