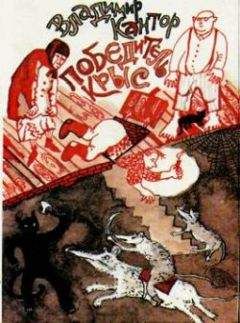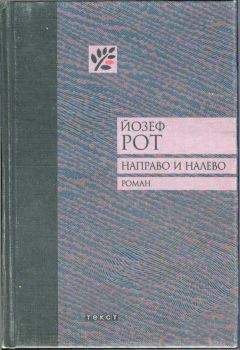Она говорила, а в груди у него поднималось и росло какое-то злое упрямство. Уже одно то, что она уговаривала его, молила, уже это означало, как ему вдруг показалось, что она не уверена в своих словах, что правда не на ее стороне. И потом еще его раздражало, что она повторила его собственные размышления, как будто она влезла ему в голову и подсмотрела, чтобы потом использовать. Или того хуже — сама ему эти мысли в голову вложила, а потом их повторила, чтоб тем самым они для него прозвучали убедительнее. Какое право она имеет удерживать его! Он, нахмурясь, смотрел в пол, а раздражение все росло. Наконец, не отвечая, он встал и молча двинулся к двери из комнаты, сжав челюсти и не оборачиваясь на красотку. «В жилках рук ее пуховых, как эфир, струится кровь; между роз, зубов перловых, усмехается любовь», — вспомнил он ни с того, ни с сего. Но не обернулся, потому что твердо решил, что идет.
— Постой! — послышался сзади вскрик, и он почувствовал касание ее руки.
— Пусти меня, — он вырвал руку и подошел к входной двери.
Она уже не пыталась удерживать его.
Он захлопнул за собой дверь, не оборачиваясь.
Борис выскочил на улицу. Было темно. Никто не сторожил его за дверью. Он стоял перед сараем, из которого теперь и голоса не доносилось, словно с его уходом всякая жизнь там прекратилась и замерла. Напротив чернел дом Старухи, неподалеку угадывались очертания колодца. Борис обогнул сарай и, найдя на-ощупь тропинку, двинулся по ней неуверенным шагом. Ему вдруг показалось, что в сарае он оставил такое, чего он больше нигде и никогда не найдет, то, о чем он мечтал всю свою жизнь, — Дружбу и Любовь. Да еще темнота кругом, тишина и пустота. Только шорохи какие-то, в тишине слышимые чересчур отчетливо и жутко. Ему стало страшно, не крыс, нет, хотя и их тоже, но и их он теперь боялся потому, что остался один. Чувство одинокости, оставленности, заброшенности и забытости охватило его. И хуже всего, что в своем положении он был виноват сам. В груди все сжалось от подступивших слез. Как нелепо, что в результате простого хлопка дверью он разом потерял и друзей, и любимую! Один жест — и все пропало! Проклятье какое-то! Что его заставило хлопнуть дверью? Теперь-то уж ему не вернуться!.. Эмили, то есть Ойле, не простит ему ухода! «Если сейчас уйдешь, то тогда пеняй на себя!» — сказала она. А он ушел. И дверью хлопнул.
Борис уселся на край оврага. Дальше идти не хотелось, хотелось вернуться. «Что меня так пугает? — бормотал он про себя. — Ведь и к Деревяшке я шел один… Но, — возразил он сам себе, — тогда впереди меня ждали друзья, а идти мне помогала Эмили. А теперь все позади. И Эмили не Эмили, а Ойле. И Котов я, наверно, больше не увижу». Но тут он вспомнил, что к сараю его подвел Степка, и с надеждой огляделся. Никого не было. Мрак стоял непроглядный, такой же, как у него в душе. И он подумал, что хорошо было в сарае, когда он до него добрался: оттуда доносилась песня, а внутри, в комнатах, горело электричество, и было застолье, где Саня, как всегда, острил, а Саша, как всегда, бранился, где Эмили играла на гитаре и пела грустные песни, где его любили, пока он не бросил их. Когда-то, наверно, очень давно, он думал, что если перед ним будет Великая Цель, он сразу обретет и друзей, и любовь, потому что он будет достоин этого. Так оно и случилось в общем-то. Но как же произошло, что, двигаясь к этой Цели, он всех растерял, бросил, отказался и от друзей, и от любимой?..
И еще ревность, ревность точила ему сердце!.. Ведь теперь Эмили запросто может влюбиться в кого-нибудь из взрослых своих друзей, ведь его-то, Бориса, с ней нет… И почему она должна хранить ему верность, когда он покинул ее!..
Борис встал и сделал несколько шагов по направлению к сараю. Но чем ближе он подходил, тем нерешительнее становился. Зачем он возвращается? Зайти извиниться, что дверью хлопнул, и снова уйти? Возможно, Эмили, то есть Ойле, его и впустит, возможно, даже и обрадуется его возвращению, а он тут же, ну, через несколько минут, повернется и опять начнет уходить? Спрашивается, зачем приходил? Чтобы еще больше обидеть? Он вспомнил ее насмешливо-угрожающее:
Принц! Помните: кто женщину гневит,
Приносит тем несчастье лишь себе.
Фортуны перст за пол свой страшно мстит —
Не попадайтесь под руку судьбе!
Вот он ее прогневил — и что же? В чем его несчастье? В том, что он ее не видит и вряд ли теперь когда увидит, потому что вернуться, чтоб уйти, так же глупо, как и уйти, дверью хлопнуть, чтобы потом снова возвращаться. Пусть его спервоначалу и радостно встретят, но ведь не удержатся заспинных намеков, что он так и не решился дойти до Лукоморья… И Ойле прежде всех. Ведь она его за решительность, наверно, полюбила…
Борис повернулся и пошел прочь от сарая. «В конце концов, — поднималось в нем раздражение, — Ойле и Саша с Саней отвлекают меня от моего пути, ради которого я с Котами до Мудреца добирался. А что, собственно, — подсказывала ему в ответ его же собственная слабость, — я разве не могу от этого Пути отказаться? Я ведь никому ничего не обязан. Это только Мудрец говорит, что я призван. Так бы и отец мне говорил. А почему я должен жить чужим, тем более отцовским умом. У меня своя на плечах голова, а не родительская, это Саня тогда в Деревяшке правильно говорил». Ему вспомнилась обида прошлогодней давности: он высказывается во дворе о новом кинофильме, спорит с соседкой, матерью соседа-младшеклассника. И вдруг на какую-то Борисову реплику она говорит: «Небось, это твой отец так считает, больно уж умно». Она права, Борис краснеет, но говорит: «Почему это отец? Я сам это придумал». Она смеется: «Ты еще в том возрасте, когда, чтоб ты ни сказал, это не твое будет, а твоего отца или твоих родителей вообще». Сидящий на лавочке рядом с ней ее муж, которого она называет «загульным кобелиной» и который и в самом деле порой исчезает на недели и месяцы, при жене постоянно молчаливый, а без нее весельчак и балагур, подмигивает вдруг Борису, дескать, не обращай внимания. Мужичок этот худ, постоянно щурит глаза, будто больше всех на свете все понимает и, как сейчас кажется Борису, очень похож на Саню. «Интересно бы вернуться и спросить у Сани, точно ли это он самый? — подумал Борис, опять замедляя шаги. — В самом деле, интересно», — оправдывался он перед самим собой.
Чем дальше он отходил от сарая, тем все больше холод одиночества и тоскливые слезы прокрадывались ему в грудь. И чем отдаленнее виделись ему Саша, Саня и Эмили, тем более близкими и дорогими они ему казались. Наконец, не выдержав тишины, ночного одиночества и сумбурных мыслей, он снова поворотил к сараю, но двигался медленно, в раздумье. «После совета Мудреца я уже дважды подходил к сараю, — считал он. — Да, два раза. Один раз вошел, другой раз не решился. В третий раз надо уж точно на что-то решаться окончательно. Предположим, я все-таки взял и вернулся. И ведь может так быть, что они вовсе не осудят меня и даже не подумают, что я проявил слабость. Просто обрадуются, и все вместе мы будем петь и веселиться». Он уже готов был постучаться в дверь, но тут же живо представил себе, как он заходит туда и проводит там день, другой, потом неделю, месяц, год… И что ж, так всю жизнь что ли просидеть, ничего не совершив?!.
Нет уж, пусть лучше одиночество, сказал он сам себе. Пусть я совсем один останусь, но не буду заключен на всю жизнь в тюрьму, хотя так похожую на жилой дом. Я хочу быть свободным. Тут меня ничто не остановит. Он опустил руку, поднятую для удара в дверь, и в третий раз пошел прочь от сарая в сторону станции. Он вспомнил, что заключенные, кто-то из революционеров, как он читал в книгах, помещенные в одиночку, непременно ежедневно делали зарядку, разнообразные физические упражнения и любую возможную механическую работу, чтобы усталостью тела отвлечься от мрачных мыслей, занять мозг чем-то ясным и простым, забыть, что перед тобой одиночество, возможно, на долгие годы. Ведь нескольких часов одиночества достаточно, чтоб человек так начал думать. Его механической работой был путь к станции. Он двигался по тропе, напряженно глядя то по сторонам, то под ноги, то вперед. Он помнил, что где-то должен находиться перекрывший тропу крысиный конный отряд. Однако он шел, шел, шел, спотыкаясь и озираясь, торопясь и боясь торопиться, и никого не было. Крысы оставили тропу. Он недоумевал, но недолго. «Главная ловушка осталась позади, за дверью. Они не думали, что я оттуда вырвусь», — невольно отчетливо подумал он. Но тут же подумал, что Ойле ни в чем не виновата… наверно… На горе снова свистнул рак.
И он припустил бегом по тропинке, едва угадываемой в темноте. Он задыхался от встречного воздуха, который превращался в ветер из-за скорости его бега, и от колотья в боку. Вот и склон. Никого на нем уже нет. А внизу стоит длинная, темная громада не то поезда, не то Дракона. Ноги подгибались от усталости.