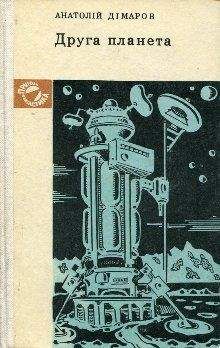Это была огромная и тяжёлая боевая палица, сделанная из особо крепкого дерева. Когда-то это дерево, ещё будучи тонким ростком, наткнулось корнями на острый продолговатый кремень и постепенно обросло его с двух сторон.
Прошли годы, деревце росло и росло, и когда оно уже стало довольно толстым, кто-то вывернул его с корнем: может, животное, может, подмыла вода, а может, и какой-то пращур этих разумных существ. Он сразу же сообразил, какое бесценное сокровище, какое грозное оружие попало к нему в руки: кремень намертво врос в древесину, и если корни обрубить, как следует, то выйдет такое совершенное оружие, какого ещё никто не держал в руках.
Сколько времени прошло, пока был обрублен корень и выстругана палица? Месяц, год, два? Но, в конце концов, это не имело особого значения — оружие появилось на свет и с тех пор принадлежало сильнейшему, оно стало собственностью вождей племени, и бионет своим искусственным разумом решил вмонтировать датчик в палицу.
Правда, при этом он нарушил одно из правил посещения чужих планет — он оставил следы. Но по-другому он, должно быть, сделать и не мог: кремень не вечный, он мог расколоться, разлететься осколками от удара, и тогда палица перестала бы быть ценным оружием, её могли бы выкинуть или похоронить вместе с владельцем. А бионет хотел застраховать свой датчик от всех случайностей. Поэтому он вынул кремень и вместо него вставил кусок твёрдого материала, придав ему такую же форму и цвет. Палица стала от этого вдвое тяжелее, и охотник был, наверное, немало удивлён, когда, проснувшись, взял её в руки. С тех пор она легко колола грозным клювом даже гранит.
Она лежала сейчас рядом с первым охотником, отполированная до блеска, в зарубках от многочисленных стычек, кровавых и грозных, во время которых нередко обрывалась жизнь не только жертвы, но и самого охотника.
Вокруг крепко спало племя, кроме часового, который, скорчившись, бдел у входа, да старой женщины, которая следила за огнём. Его, ненасытного, нужно было всё время кормить, чтобы он никуда не сбежал — хотя бы до вон той горы, которая глухо громыхает на горизонте и пылает вечным огнём. Женщина подбрасывала ветку за веткой, не мигая смотрела красными воспалёнными глазами, как живые огненные язычки пляшут по дереву, поднимаясь выше и выше, освещая огромную пещеру. Женщина была очень стара: много-много, может, тридцать, а может, и все сорок вёсен пронеслись над её теперь уже седой головой, и скоро настанет день, когда племя бросит ей, как оставляло всех немощных и больных, которые не могли добывать себе пищу.
Дым и чад клубился по пещере, густой смрад плыл над телами спящих, лежащими прямо на земле, перемешанные, как попало: мужчины, женщины, дети, подростки. Младший иетанин долго кружил над ними, выбирая, к кому подключить своё сознание.
Наконец, после долгих колебаний, сделал выбор…
Это был довольно стройный юноша лет, должно быть, четырнадцати, хотя на вид ему можно было дать гораздо больше. Он лежал, скорчившись и подтянув колени к подбородку, в привычной позе своих соплеменников. У него была густая грива волос, а в руке он сжимал необструганную ещё дубинку: с одной стороны белел свежий слом, с другой свисали корни.
Эта дубинка и сделала выбор: иетанину хотелось узнать, как он станет её обрабатывать. К тому же у юноши было не такое грубое лицо, не такая тяжёлая челюсть.
Оставалось самое трудное: подключиться к его сознанию, слиться с ним полностью, до самых потаённых глубин неразвитого разума, до самых незаметных движений души. Чтобы уже завтра утром проснуться ИМ, забыв на время о СЕБЕ, чтобы ни одно даже самое крошечное воспоминание не возникло в этом отключенном пребывающем в глубоком сне сознании.
Таковы условия эксперимента, и все участники экспедиции были обязаны соблюдать их неукоснительно.
Неподвижно зависнув над юношей, он сосредоточил всю свою волю, сконденсировал всё своё внимание, всю свою духовную силу на низком лбу спящего. Ощутил, как взвихрились биотоки, как забились импульсы, как сплошной лавиной потекли биоволны — он почти физически ощущал тот духовный мост, что соединил их обоих — юноша вдруг зашевелился, задышал всё тяжелей и тяжелее, крупные градины пота усеяли его лоб, он заметался, будто что-то отталкивая, от чего-то отбиваясь, а потом обессилено замер. Лежал недвижимо, почти не дыша, лишь мелко дрожали веки и по всему телу пробегали конвульсии…
Потом он успокоился. Снова свернулся калачиком и погрузился в сон…
* * *
А-ку проснулся от того, что ему очень хотелось есть. Голодные спазмы больно сжимали давно пустой желудок, рот наполняла слюна. А-ку проглотил её, и голод стал ещё острее. Он жалобно заскулил и открыл глаза.
В пещере было темно. Снаружи через узкий вход, заваленный камнями так, чтобы не мог протиснуться ни один хищник, лился и бессильно гас утренний несмелый свет. Вокруг шевелились, стонали, сопели взрослые — неспокойный сон племени, которое уже долгое время голодает. Звучал иногда сердитый женский окрик, а то и затрещина — какая-то мать успокаивала младенца. А-ку вздохнул: у него даже матери не было, чтобы вот так прикрикнуть на него — у его матери, красивой и сильной, с такими густыми и буйными волосами, что они покрывали её почти всю, уже было двое других детей, и она давно прогнала от себя старшего сына. А-ку и до сих пор помнит, как она била его и отталкивала, когда он подходил к ней, как загораживала от него младших братьев, так что она давно стала ему безразлична.
Кто же был его отцом, А-ку не знал. Да и никто в его племени не знал своего отца, не было даже понятия «отец» — все взрослые охотники одинаково ласково и терпеливо опекали малышей, должно быть, и сами неспособные отличить собственных детей от чужих. Дети знали лишь своих матерей, которые сначала носили их на руках, а потом водили с собой, давая первые уроки жизни. Когда же дети подрастали, матери, которые успевали завести ещё одного ребёнка, безжалостно гнали их от себя, и парень или девчонка присоединялись к стае таких же, как они сами, одногодков — будущих охотников, будущих матерей своего племени. Мальчишки учились мастерить боевые дубинки, метко бросать острые камни, выслеживать и убивать мелкую дичь, а девочки под присмотром одной из бездетных «тёток» овладевали искусством быть женщиной, которое пригодится им в будущем. Они то собирали хворост, чтобы кормить ненасытный Огонь, который согревал всё племя в холода и отгонял хищников, то выискивали слизней и улиток, выкапывали заострёнными палками съедобные корешки, подбирали плоды, пригодные в пищу: часть их тут же поедалась, остальное отдавали детям, которые всегда встречали их жадно протянутыми руками.
Возможно, потому, что женщины, даже старые и немощные, всегда заботились о детях, племя прогоняло их гораздо позднее, чем мужчин…
А-ку поднялся и, осторожно ступая, чтобы не потревожить спящих, начал пробираться к выходу. Он крался неслышно, его толстые грубые подошвы, которые не боялись даже острых камней, в то же время ощущали каждый выступ, каждую веточку — походка будущего охотника, кормильца племени.
Он протиснулся в отверстие и выполз из пещеры.
Снаружи уже совсем развиднелось, за далёкими горами разжигал свой костёр Великий Охотник. Вот-вот выглянет он из своей пещеры, выйдет на охоту за вон теми табунами, что пугливо дрожат наверху, и тогда станет тепло и весело. Раньше А-ку закричал бы, приветствуя Великого Охотника, ударил бы себя со всей силы в грудь, как это делают охотники, выходя на охоту, но сейчас голод грыз ему нутро, и он молчал.
Мрачно и безнадёжно оглядывал А-ку пустую долину, что простёрлась внизу — на ней уже не паслись табуны животных, на которых охотилось его племя. Они исчезли, подались куда-то в поисках пастбищ, потому что здесь, в долине, лютовала засуха. Великий Охотник за что-то разгневался на его племя и прогоняет с неба воду, не даёт ей пролиться вниз, напоить сухую, растрескавшуюся землю. Вот и сейчас он взбирается на самую высокую гору, красный, уже заранее сердитый — он затеял, должно быть, прогнать племя из этой долины.
Может, он сам хочет в ней охотиться?
Разве ему не хватает тех табунов, что пасутся наверху?
А-ку вздохнул, скривился от боли в желудке.
— А-ку хочет есть, — пробормотал он в пространство.
— Ва-а хочет есть, — послышалось жалобно в ответ.
А-ку обернулся на голос: справа, скорчившись, сидел караульный, который не спал всю ночь. Он был старый и тщедушный, способный уже только на такую вот службу, чтобы охотники помоложе могли отоспаться и набраться сил. Он уже давно сошёл с охотничьей тропы, забыл вкус тёплого мяса, оторванного от тела только что убитого животного — ему доставались только кости, обгрызенные мослы, и он часами сосал их, выискивая малейшие съедобные кусочки.
— А-ку голодный! — сказал А-ку, неприязненно смотря на караульного.