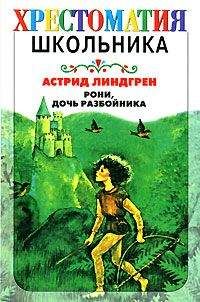Астрид Линдгрен
Рождество в Смоланде в давние-предавние дни
В бескрайнем лесу, глухом и дремучем,
где было раздолье ветрам и тучам,
где гнулись кроны старых осин,
брел ребенок, совсем один.
Да, день был долгим, а небо — темным,
а лес — таинственным и огромным,
и был ребенок еще так мал —
шел он по лесу и рыдал.
Рыдал и думал: «Уже никогда я
жилье отца не найду, блуждая,
в непроходимом этом бору
от жажды и голода я умру…»
И когда им отчаяние овладело,
чаща лесная вдруг поредела,
тучи ушли, и при свете дневном
ему явился отцовский дом.
Всё стало как прежде, всё было знакомо —
опушка, лес и тропа у дома,
всё тот же дом, и отец в окне,
и всё было въяве, а не во сне![1]
Приходилось ли тебе слышать эту старую песню?
Эту песню мама пела нам, когда мы хворали или ушибались, или горевали, или у нас болели зубы. А иногда нам случалось засунуть в нос горошину, которую никак было не вытащить, пока не появлялась мама со шпилькой для волос и, напевая песню о бедном ребенке в дремучем, бескрайнем лесу, — раз, симсалабим[2] — и выковыривала эту злосчастную горошину.
Но сейчас я расскажу о Рождестве 1913 года, ой, сколько воды утекло с тех пор! Мне было тогда шесть лет, моему брату Гуннару — семь, и он уже ходил в школу, Стине исполнилось всего два года, а Ингейерд, нашей крошки, еще и на свете-то не было. Поэтому только мы с Гуннаром и могли пойти с папой, когда накануне сочельника он собрался в лес за рождественской елкой.
Папа не хотел брать нас с собой, как мы ни клянчили и ни просили, пока в конце концов не сказал:
— Ладно, тогда пошли. Но чтобы не хныкать, когда снег будет выше колена.
Ха-ха, как ему только такое в голову взбрело? Мы ведь не из тех, кто пищит из-за капли снега! Но снег выше колена… это, вынуждена признаться, надоедает! Мы всё шли, шли и шли… шли по заснеженной узенькой тропке, что вела прямо в лес. И я уже начала думать, что не настоящий ли дурацкий розыгрыш устроил нам папа?
Ведь любое сумасбродство в Смоланде так и называют — «дурацкий розыгрыш».
Шагая чуть позади Гуннара, я тихонько напевала сама себе: «Брел ребенок, совсем один». Да, то же самое было и со мной, я плакала! И постепенно все сильнее и сильнее. О, если бы только мама была с нами и утешила бы меня! Слезы мешали мне петь, но я вспомнила ужасное продолжение маминой песни: «В непроходимом этом бору от жажды и голода я умру». Я так и знала, это был ни с чем не сравнимый дурацкий розыгрыш! И зачем только я пошла с ними?! Папу и Гуннара я вообще уже не видела, неужто они бросили меня? Я громко заревела, и рев мой так жутко зазвучал в лесу, где стояла мертвая тишина.
Но тут вдруг я увидела, как из-за какой-то елки высунулся Гуннар.
Чего ревешь? — спросил он.
Мне стало стыдно.
— Я подумала о чем-то очень печальном, — ответила я.
— Глупая, — сказал. Гуннар. — Идем, посмотришь елку, которую срубил нам папа.
Потом мы пошли домой. Папа нес елку. Она была такая красивая!
Мы всё шли и шли, и я так устала! Но потом вдруг я увидела утопающий в снегу наш дом, выкрашенный в красный цвет. Всё было точь-в-точь как в маминой песне: «Всё тот же дом, и отец в окне, и всё было въяве, а не во сне!» На всякий случай я спросила папу:
— Папа! Дом и жилье — это одно и то же? Этот дом и есть жилье моего отца?
— Да-а, — ответил папа. — Но это и жилье твоей матери тоже. И вы, дети, тоже должны жить здесь. Если не будете слишком шуметь!
Папа поставил рождественскую елку у кухонного крыльца, и мы вошли в дом. Но этого нам делать не следовало бы!
Батюшки! Что творилось на кухне! Вся мебель — вверх дном, никаких ковриков на полу, одна лишь грязь, немытая посуда повсюду, а на плите выкипевшая и пригоревшая рисовая каша. На кухне стоял такой чад, что можно было задохнуться!
— Уходите! — закричала при виде нас мама. — Вон! Сгиньте!
— Но что вы делаете? — спросил папа.
— У нас рождественская уборка, — ответила Сигне, наша служанка.
Мы с Гуннаром взяли несколько бутербродов, немного молока и исчезли, поднявшись с невероятной быстротой по лестнице в нашу комнату на чердаке. Похоже, печальное будет это Рождество! А завтра сочельник! И никогда, никогда им не справиться с уборкой так, чтобы в доме хоть самую малость почувствовалось Рождество.
— Ты что, снова ревешь? — спросил Гуннар.
— А вот и нет, — заявила я. — Ну и грустное же будет у нас Рождество!
Так думала я. Но когда на другой день утром мы на цыпочках вошли в кухню, я внезапно остановилась на пороге и только смотрела во все глаза.
Откуда взялась вся эта красота? Похоже почти на колдовство! Новые лоскутные коврики на полу, на обеденном столе — скатерть, вся сплошь покрытая домовыми и ниссами, белые свечи в наших красных подсвечниках и плита, сверкающая чистотой, и никакой выкипевшей рисовой каши!
— Ну что, съела?!. Даже язык проглотила, — сказал Гуннар.
Мы тут же нарядили елку, да, по правде говоря, это делал папа. Но мы с Гуннаром помогали ему. Стина все время мешала нам, кроме тех редких минут, когда выбегала на кухню и мешала маме и Сигне стряпать рождественскую еду.
В тот день мы много ели. Все вместе сидели мы за круглым обеденным столом — мама и папа, Гуннар и я, Стина и Сигне, и наши работники Пелле и Оскар.
Мама думала, что после обеда Стина заснет. Но Стина вовсе так не думала. Она была миленькая, эта малышка, но она никогда не желала спать. Мама уложила Стину в большую высокую плетеную колыбель и велела Гуннару и мне качать ее, тогда, быть может, девочка заснет!
Ладно, мы начали качать колыбель. Сначала чуть медленно, но Стина только и делала, что орала; тогда мы стали качать колыбель всё быстрее и быстрее, так что Стина, чуть не вывалившись оттуда, всё же продолжала орать.
— Посмотрим, что она станет делать, если ее оставить в покое, — сказал Гуннар.
И мы увидели! В мгновение ока Стина вылезла из колыбели и встала на диван, затем, спустившись на пол, подбежала к столу, на котором стоял стакан молока, и вылила его на стол. Заметно, что более веселого развлечения за весь сегодняшний день у нее не было. Затем она помчалась к колыбели и моментально влезла в нее, улеглась и немедленно заснула.
Тут как раз в комнату вошла мама.
— Молодцы, что помогли ей уснуть, — сказала мама.
Мы не произнесли ни слова.
«Чудной день — сочельник, — думала я. — Только ходишь и всё ждешь, да ждешь целый день».
Гуннар и я тайком прокрались в зал и стали ощупывать пакеты в корзине для белья, где лежали рождественские подарки.
— Думаешь, тебе достанется что-нибудь счастливое? — спросил Гуннар.
«Счастливое» — это если тебе достанется какой-нибудь подарок до такой степени прекрасный, что ты почувствуешь себя очень счастливым.
— Не-а, не думаю, — сказала я. — Тогда, во всяком случае, это должен быть подарок от бабушки.
Гуннар тоже не думал, что ему достанется что-нибудь в этом роде. Нам оставалось только ждать.
Но в конце концов настал вечер и мы все уселись в зале вокруг стола.
Мама запела: «Привет тебе, сочельник, чудный и светлый!» Все запели вместе с ней и даже папа, хотя мама сказала, что он поет «диким голосом».
— Но мне все-таки очень нравится, когда он поет, — добавила она.
А потом папа читал из Библии о младенце Иисусе, что родился в яслях, и о том, как всё было там, в дальней Иудейской стране.
Досталось ли мне что-нибудь счастливое? Да, да, да, да. Да, досталось. Я получила светло-коричневые сапожки от бабушки, самые чудесные и самые красивые сапожки на свете. Я не помню, достался ли Гуннару какой-нибудь счастливый подарок на Рождество 1913 года, но надеюсь, что достался.
Мои сапожки… они были так чудесны и так абсолютно мне впору. И абсолютно в меру коричневые.
После того как все получили подарки, нам роздали апельсины и орехи. Мама разрезала апельсины на четыре части, они были жутко кислыми, но мы ели апельсины только на Рождество, и они казались нам чудесными. Орехи мы кололи пестиком от ступки, но, должно быть, очень много скорлупок упало на пол. У Стины ночью разболелся животик, и папа ходил с ней по залу и баюкал ее, чтобы она не разбудила маму. Папа не надел башмаков, он ходил босиком и потом сказал:
— Я ходил в скорлупе по самые лодыжки.
Сапожки были на мне во время рождественской заутрени, и я была почти уверена, что все в церкви смолкнут в разгар пения псалма: «Благословен будь дивный утренний час…» — только ради того, чтобы полюбоваться моими сапожками. Но так не случилось, а вместо того чтобы любоваться сапожками, они пели «Благословен будь…» так, что в церкви словно гром гремел, и это первая рождественская заутреня, которую я помню. Я помню также священника, который произносил такие чудные слова с церковной кафедры. И я шепнула Гуннару: