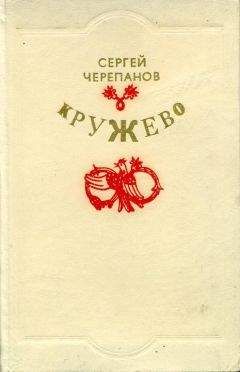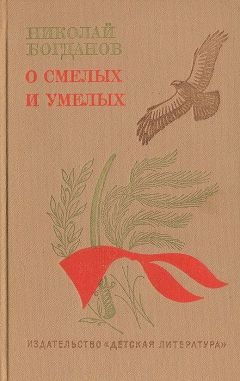Что-то вроде бы она еще говорила, да после сытной каши Луконю сон одолел.
А очнулся, когда уже утренняя заря занялась. Раскалилось небо в той стороне, окатило светом вершины берез.
Огляделся вокруг: ничего не знатко, никаких следов после сохатого не видать, а на том месте, где старуха сидела, даже трава не примята. «Это, наверно, шибко я вечор утомился, — подумал Луконя, — и, надо быть, все приснилось мне».
Так бы он и уверился, но увидел у лесной опушки застреленных ночью волков. Коль рассказать кому, вруном обзовут.
Ну, однако, решил до поры до времени ни про сохатого, ни про старуху, ни тем более про ее сказ никому слова не говорить. Сначала-де надо как-никак с сохатым, не то с орланом где-нибудь повстречаться и в точности на деле проверить с ними сродство, потому что старухин сказ шибко на сказку похож.
Принес он волчьи шкуры домой, во дворе на заплоте развесил. Отец и братья похвалили его за добычу, все ближние и дальние соседи тоже хвалили, вот-де парень всей деревне хорошо услужил, а то ведь от волчьего разбою уж покою не стало. Только Касьян и Куприян вздумали опорочить:
— Эти волки нами были подранены, а ты их дохлых-то подобрал!
Ден через пять, когда Луконя еще трех волков в Сорочьем логу добыл да волчицу с волчатами, они снова начали насмехаться:
— Ты их не уменьем-стараньем взял, а по случайности!
Зато о себе пустили молву, будто в скорости оба забогатеют. Порешили-де, как-никак, но чудного сохатого, который в нашем краю объявился, выследить. За золотой рог и за рог из камней самоцветных можно выручить денег полный кошель, на весь век хватит пить-гулять и в роскоши жить.
Деревенские мужики им не верили: у них-де языки без костей и умом-то оба не шибко далеки. Коли глянется, пусть болтают. А они взаправду стали на охоту готовиться: ружья начистили, дробью и порохом запаслись, бабы им лепешек и калачиков напекли.
Подследил за ними Луконя и надумал не дать окаянным злое дело свершить. Понадеялся обхитрить их, а коли случится первым сохатого встретить, предупредить: пусть подальше в горы, в тайгу убегает. Вдобавок, того пуще желанье припало с сохатым ближе сойтись.
Вскоре раным-рано, еле утренняя заря занялась, Касьян и Куприян ушли из деревни. Луконя — ружье на плечо, котомку с припасами за спину и — айда — следом за ними. Все время шел скрытно. Вот повернули они с прямой дороги в ту сторону, где меж холмами и лесами течет Исеть-река. Тут и сказал Луконя:
— Не бывать тому, что затеяно! Пусть достанется варнакам маята, раззор и убыток!
Только вымолвил это — поссорились Куприян и Касьян. Одному охота лесом идти, другому окраинами, где елани и мелколесье. Куприян закричал на Касьяна: «Уж не станешь ли ты меня обучать, где след зверя искать? Сначала у меня поучись!» А Касьян заорал. «Да ведь сохатый-то завсегда кормится в мелколесье. Надо смотреть, где у молодых березок вершинки объедены, а не то вблизи чистого озерка засаду устроить. Очень он уважает по ночам в свежей воде купаться». До того поругались, чуть не подрались.
Ну и дальше их мирова не брала. Ни о чем не могли сговориться. Пернатая дичь при виде их улетала. Даже в одном котелке кашу сварить не могли: одному каша казалась недосоленной, другому пересоленной.
Два дня этак-то маялись, а на третий в разные стороны, разошлись.
Луконя своей дорогой пошел. До Исети-реки путь уже оставался недолгий. К исходу дня, перед солнцезакатом, только миновал ложбину, а она, Исеть-то, вот вся на виду: вода течет мирно, нигде не шумит и не плещется, по обоим берегам красный лес и кустарники, в глубине темные, а спереди словно позолоченные и всякими цветными красками обрызганные. Чуть подальше — крутая излучина, каменное отгорье и тут же, как раз над излучиной, поднялся утес-голик. Вгляделся в него Луконя: на середине голика пещера, в точности, как была она старухой описана, с тремя входами-выходами.
При солнцезакате-то шибко она ему поглянулась: от подножья до вершины весь камень казался красным, над входами-выходами, как звезды, сверкали осколки какие-то, а выше, за взгорьем, уже начинало темнеть небо и стояло там красное облако.
Вброд и вплавь перебрался Луконя на другой берег реки, хоть и с трудом, но взошел на вершину утеса, окинул взглядом всю местность. Тихо, мирно кругом. Касьян и Куприян заблудились, наверно, сюда пути не нашли. Потом Луконя спустился к пещере. Внутри она круглая, размером невелика, людских следов не было в ней, а зато отпечатки копыт и белые перья. Они и навели на догадку: сохатый и орлан здесь бывают, на заветном-то месте.
Но как же их на свиданку позвать? И подумал так: «Ружье-то у меня не простое, самим батюшкой Уралом дареное. Дай-ко спробую из него пострелять. Может, тот и другой его распознают и поймут, что я для них человек не чужой».
Ну, задумано-сделано! Вышел Луконя из пещеры, встал на приступок и два раза подряд из ружья вверх пальнул. Вдоль реки и по окрестным лесам как гром прокатился.
А мало времени погодя, когда все утихло, услышал: вот где-то на другом берегу сохатый начал в ответ громко трубить, с вышины, от красного облака и орлан свой голос подал. Выбежал сохатый к реке, с берега на берег одним махом к пещере перескочил. Орлан с поднебесья спустился сюда же.
Закатное солнышко осветило их своим последним лучом и погасло, но в сумерках, когда уже и река потемнела и с понизовья ночь подступила, вдруг вдалеке зарницы заполыхали, а вся земля будто качнулась. Это старый батюшко Урал чуток приподнялся, чтобы на побратимов взглянуть да увериться, что завет его не нарушен.
Прежде в семействе Филатовых не бывало умельца, который мог бы своим мастерством людей удивить.
Кузенка была у них старая. Еще прадед Захар ее ставил. На угорке у озера вырыл яму, плетнем огородил, дерновой крышей накрыл — вот и все заведенье.
Наторели они коней ковать, сабаны[2] и бороны чинить, ну и в междуделье занимались разными поделушками для домашнего обихода, без коих печь не истопить, щей не сварить, дров не нарубить.
От ночи до ночи, бывало, по наковальне молотами стучат, в дыму, в гари возле горна, но придет светлый праздник — у них нет ничего: ни на себя надеть, ни на стол подать.
А у брательников жены, как сговорились, начали только девок рожать.
Антоха, старшой-то брат, с досады свою бабу даже поколотил. Она в рев: «Ой, да то ли я виновата!» Погоревал он — бабу-то жалко, но и без наследника худо. Отдал кузню меньшому брату Макару, сам к мельнику нанялся в работники.
Остался Макар один. Сам горно разжигал, сам железо калил, сам молотом бил. На ходу ел, одним глазом спал, белого свету не видел.
Родовое ремесло, однако, не бросил.
В скором времени Агафья опять ему девчонку родила, третью по счету.
— Ладно уж! — согласился он. — Пусть растет. Девка не парень, отцу не помощница, но, может, и она хлеб-соль оправдает
Ремесло давало мало доходу, зато деревня не могла без кузнеца обойтись. Перед каждой вешной мужики обступали: «Уж ты, Макарушко, помоги-пособи, надобно ведь пахать-боронить, хлебушко сеять!» У одного сабан затупился, у другого прицеп развалился, у третьего ободья с колес телеги слетают. Работешка мелочная, кропотливая, но ведь и ее приходилось делать по совести, с пониманием чужой нужды.
В ту вешну, когда родилась девчонка, набралось такой работы невпроворот. Не удавалось к озеру выйти и там раздышаться. Только одна услада была у Макара — в бане попариться, отмыться от копоти, всласть квасу напиться да без заботы на полатях поспать.
А один раз сосед Аникей упросил в субботу тележонку ему починить. Вот и проканителился с ней Макар до полуночи. Кончил дело, присел на чурбак, достал кисет с табаком, протянул руку к горну от уголька прикурить, а в горне-то огонь сам собой пыхнул до потолка. Но это еще не диво, а то диво, что посередь огня босая женщина стоит — не горит, от огня не отмахивается, будто не чует каленых углей.
Поначалу Макар подумал, вот-де, как ухлестался, аж блазнит! И сам себе не поверил бы, мало ли чего в эту пору может привидеться, кабы давнее поверье не всплыло в уме.
Подошел поближе к горну, вгляделся: это же сама Горновуха.
Еще в молодости наслышан он был от отца про нее. Горновуха нарочито приставлена батюшкой Уралом к кузнечному ремеслу. Велено ей славным мастерам потакать, нерадивых наказывать, чтобы худой славы про наш край они не чинили.
Испугался Макар. Неужто, мол, он согрешил, где-то совестью попустился и тем прогневил Горновуху?
Поклонился в пояс:
— Прости, матушка! За прибытком не гонюсь, ковать не ленюсь, делаю, на сколь уменья хватает. Да и без помощника роблю.
— Все знаю, Макар, — промолвила Горновуха. — И не хаю тебя. А хочу я твою новорожденную дочку в крестницы взять. Чеканой ее назови. И вот ей от меня подаренье.
Оставила ему в руке колечко-перстенек, сама вмиг исчезла.
Хотел Макар рассмотреть, каков перстенек, дорог ли он, да дрема одолела и сон сморил.