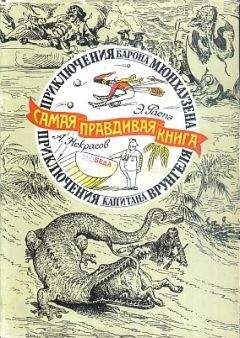Наш же снаряд оказал нам бесчисленные услуги: он не только отбил назад неприятельское ядро, но, согласно моему намерению, продолжая свой путь, сорвал с лафета пушку, только что выстрелившую по нам, и швырнул ее с такой силой в киль неприятельского корабля, что тотчас сделал в нем пробоину. Внутрь корабля хлынула вода, и он пошел ко дну с тысячей испанских матросов и порядочным количеством солдат десантного отряда.
То был, конечно, необычайный подвиг. Однако я и не рассчитывал, что это поставят мне в заслугу. Конечно, моя изобретательность подтолкнула меня к этой выдумке, но случай в известной мере содействовал успеху.
Впоследствии я узнал, что наше 48-фунтовое орудие по оплошности было заряжено двойным количеством пороха, отсюда становится понятным неожиданное действие выстрела, с такою силою отразившего неприятельское ядро.
За мой выдающийся подвиг генерал Эллиот предложил мне должность офицера, но я отказался от нее, удовольствовавшись его благодарностью, изъявленной в самых лестных выражениях в тот же вечер за ужином, в присутствии всех членов нашего штаба.
Так как я очень расположен к англичанам, потому что они, бесспорно, одна из храбрейших наций, то счел своим долгом не покидать крепость, прежде чем мне удастся оказать им еще одну услугу. Удобный случай представился три недели спустя.
Я оделся в платье католического патера, осторожно вышел в час ночи из крепости и, благополучно минуя неприятельские линии, проник в центр вражьего стана. Я вошел в шатер, где граф д’Артуа с главнокомандующим и другими военачальниками обсуждали план штурма гибралтарской крепости, назначенный на следующее утро. Платье духовного лица послужило мне защитой. Никто не прогнал меня прочь, и я мог без помехи слышать и видеть все происходившее.
Наконец участники военного совета отправились спать, после чего весь лагерь, не исключая и часовых, погрузился в крепчайший сон.
Не теряя времени, принялся я за дело. Все неприятельские пушки, свыше трехсот штук, начиная с 48-фунтовых и кончая 24-фунтовыми, были сняты мною с лафетов и брошены в море на три мили от берега. Поскольку я справлялся с ними один, без всякой посторонней помощи, то это была самая трудная работа, какую мне случалось выполнять за всю свою жизнь, исключая, пожалуй, одну, о которой, как до меня дошли слухи, недавно нашел нужным рассказать вам в мое отсутствие один из моих знакомых. Это было тогда, когда я переплывал морской пролив, таща на спине чудовищную турецкую пушку, описанную бароном Тоттом…
Потопив орудия, я стащил все лафеты и тележки с зарядными ящиками на середину лагеря, а чтобы стук колес никого не потревожил, носил их попарно под мышками. Из этих приспособлений выросла целая гора не ниже Гибралтарской скалы. Обломком одного 48-фунтового орудия ударил я после того по кремню, торчавшему на двадцать футов из стены, возведенной еще арабами, высек огонь, зажег фитиль и подпалил им свой громадный костер.
Я забыл вам сказать, что предварительно побросал сверху все повозки с военными припасами.
Наиболее легко воспламенявшиеся предметы были весьма рассудительно положены мною вниз, благодаря чему вся нагроможденная моими руками груда запылала в одно мгновение ярким пламенем.
Чтобы снять с себя всякие подозрения, я первый же и поднял тревогу. Весь лагерь, как вы можете себе представить, пришел в неописуемое смятение. Осаждавшие кричали в один голос, что часовые были подкуплены и пропустили к ним в лагерь из неприятельской крепости семь или восемь полков, которые произвели такое жестокое опустошение среди их артиллерии.
Мистер Дринкуотер в своем описании знаменитой осады Гибралтара упоминает о жестоком уроне, который понесли враги из-за пожара, вспыхнувшего в их лагере, но он далек от того, чтобы догадаться о настоящей причине происшедшего.
И тут нет ничего удивительного. Ведь до сих пор я не заикнулся о своем участии в этом деле ни единому человеку, не исключая даже генерала Эллиота (хотя трудами той ночи мне удалось одному спасти Гибралтар).
Граф д’Артуа в паническом страхе бежал оттуда со всеми своими приближенными, и бегство это продолжалось безостановочно около двух недель, пока беглецы не достигли наконец Парижа. Ужас, овладевший ими при виде моря пламени, вызвал у них такое сильное потрясение, что они целых три месяца не могли принимать никакой пищи и питались, подобно хамелеонам, одним воздухом.
* * *
Около двух месяцев спустя после того, как я оказал осажденным эту услугу, мы сидели однажды утром с генералом Эллиотом за завтраком, как вдруг в комнату влетела бомба и упала на стол (потопив пушки неприятеля, я не успел отправить вслед за ними его мортиры). Генерал немедленно оставил комнату, что сделал бы почти каждый на его месте. Я же схватил бомбу, прежде чем она успела разорваться, и отнес ее на вершину скалы.
Оттуда я заметил на прибрежном холме, недалеко от неприятельского лагеря, довольно многочисленную толпу, но не мог, однако, различить невооруженным глазом, что эти люди там затевают. Оставалось прибегнуть к помощи моего телескопа – я так и сделал.
Оказалось, что два наших военачальника – один генерал, другой полковник, которые проводили со мною время не далее как вчера вечером, а ночью в качестве шпионов пробрались в неприятельский лагерь, – попали в руки неприятеля, и этих несчастных собирались повесить.
Расстояние от меня до места казни было слишком велико, чтобы я мог швырнуть туда мою бомбу просто руками. К счастью, мне вспомнилось, что в моем кармане лежит та самая праща, которую Давид некогда употребил с таким успехом против Голиафа. Я вложил в нее свою бомбу и швырнул ее в самую середину скопища.
Ударившись о землю, бомба немедленно взорвалась и убила всех стоявших вокруг, исключая обоих английских военных, которые к тому моменту уже болтались на виселице: один из осколков бомбы ударил в подножие этого орудия казни и опрокинул его.
Едва оба наши приятеля почувствовали под собою terra firma[8], как осмотрелись вокруг, отыскивая причину неожиданной катастрофы. Увидав, что стража, палач и все зрители поражены насмерть, осужденные освободили друг друга от уз, бросились бегом к морскому берегу, прыгнули в испанскую лодку и заставили сидевших в ней двоих матросов грести к нашему кораблю.
Несколько минут спустя, как раз когда я рассказывал обо всем случившемся генералу Эллиоту, беглецы благополучно прибыли в крепость, и после обоюдных объяснений и поздравлений мы как нельзя веселее отпраздновали их замечательное спасение.
* * *
По вашим глазам, господа, я вижу, что вам ужасно хочется узнать, каким образом попала мне в руки такая драгоценность, как упомянутая мною праща. Извольте! Дело было так.
Прежде всего, вы должны узнать, что род мой берет начало от жены Урии. Эта дама с течением времени потеряла свое влияние при иерусалимском дворе, главным образом из-за своей строптивости.
Однажды у нее вышел спор с царским любимцем о том, где был построен Ноев ковчег и где остановился он после потопа. Вышеозначенный сановник желал прослыть великим археологом, а Вирсавия, вдова полководца Урии, состояла председательницей одного исторического общества. Влиятельный царедворец, вдобавок ко всему, имел слабость, свойственную многим высокопоставленным лицам и почти всем маленьким людям: он не мог выносить, когда ему противоречили. Вирсавия же была подвержена известному пороку своего пола: она хотела во всем быть правой. Немудрено, что между ними возгорелась настоящая война.
После того пребывание при иерусалимском дворе сделалось невозможным для этой красавицы. Она задумала бежать. В счастливые дни ей часто приходилось слышать о знаменитой праще как о великом сокровище, и молодая женщина решила захватить ее с собою, вероятно, на память. Но прежде чем она успела скрыться за пределами Палестины, пропажа пращи была обнаружена, и в погоню за беглянкой послали целых шесть человек из числа царских телохранителей.
Однако храбрая дама так ловко воспользовалась взятым ею орудием, что положила на месте одного из своих преследователей, который, пожалуй, хотел отличиться своею услужливостью и несколько опередил своих спутников. Увидав товарища распростертым на земле, телохранители после долгого и мудрого размышления решили заявить о происшедшем предержащим властям, а графиня сочла за лучшее продолжать на подставных лошадях свое путешествие в Египет, где у нее были влиятельные друзья при дворе.
Прежде всего мне следовало упомянуть о том, что она взяла с собою в изгнание самого любимого сына. Последний, благодаря прославленному плодородию Египта, обрел там еще несколько братьев и сестер. На основании этого Вирсавия отказала ему особым параграфом в своем духовном завещании знаменитую пращу; от него же эта вещь перешла по прямой линии ко мне.