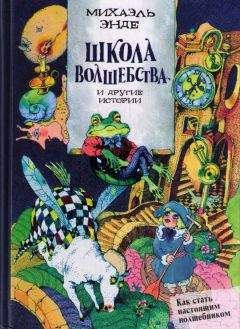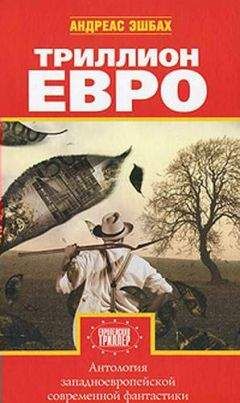— Ну, каково чувствовать себя победителем?
Норберт зло скосил на него глаза и хрюкнул:
— Убирайся вон! Я требую относиться ко мне с почтением! Исчезни, и как можно быстрее!
— Не кипятись, остынь, — миролюбиво прощебетал Карлхен. — Теперь ты, стало быть, сам себе царь и бог, Норбертошенька. Ты действительно одержал грандиозную победу. Но может быть, тебе нужно кое-что еще?
— У меня и так все есть, — проворчал Норберт.
— И тем не менее, — сказал Карлхен, — кое-чего тебе, как всякому победителю и властелину, все-таки не хватает. А именно — памятника.
— Чего-чего? — переспросил Норберт.
— Знаешь ли ты, — продолжал Карлхен, — что тот, кому не поставлен памятник, не может считаться настоящим победителем и властелином? Поэтому повсюду на белом свете таким выдающимся личностям, как ты, воздвигают памятники. Тебе он тоже не помешает.
Норберт тупо уставился в одну точку — как всегда, когда напряженно думал. Эта пичуга несомненно права. Он, Норберт Накендик, — настоящий победитель и властелин, но прежде всего — выдающаяся личность. И теперь он тоже хочет иметь памятник.
— Как же изготовить такую штуку? — спросил он. Карлхен Кламмерце взъерошил перышки.
— Н-да, в твоем случае это действительно проблема, поскольку в саванне, к сожалению, уже не осталось никого, кто мог бы воздвигнуть тебе памятник. Придется тебе сооружать его самому.
— А как? — заинтересовался Норберт.
— Во-первых, он должен походить на тебя, — объяснил Карлхен, — чтобы все сразу видели, кому этот памятник поставлен. Ты сумеешь вырезать себя из дерева или высечь в камне?
— Нет, — признался Норберт, — не сумею.
— Жаль, — покачал головой Карлхен, — тогда тебе придется обойтись без памятника.
— Но я хочу памятник! — зло рыкнул Норберт. — Пораскинь-ка хорошенько мозгами!
Карлхен сделал вид, что глубоко задумался, скрестил за спиной крылья и принялся деловито расхаживать взад и вперед по голове носорога.
— Пожалуй, существует еще одна возможность, — наконец проговорил он, — но боюсь, это будет для тебя слишком обременительно.
— Для меня, — нетерпеливо просопел Норберт, — нет ничего слишком обременительного. Говори!
— Ты должен сам стать своим собственным памятником, — заявил Карлхен.
— Ага, — пробурчал Норберт и опять уставился в одну точку. Ему потребовалось довольно много времени, чтобы понять, к чему клонит Карлхен. Наконец он пришел в прекрасное расположение духа.
— Итак, что мне нужно делать? — спросил он.
— Ты должен, — объяснил Карлхен, — взойти на высокий пьедестал, чтобы тебя отовсюду было хорошо видно. И потом замереть, как будто ты вылит из бронзы. Понимаешь?
— Что тут особенно понимать, — буркнул Норберт и припустил рысью. Неподалеку в степи лежала огромная каменная глыба. Норберт вскарабкался на нее и принял величественную позу.
Карлхен издали придирчиво осмотрел его.
— Чуть-чуть приподними левую заднюю ногу, — крикнул он. — Вот так, очень хорошо! Теперь голову чуточку выше! Ты должен гордо и победоносно смотреть вдаль.
— Но я близорук, — проворчал Норберт.
— Тогда смотри в будущее, — посоветовал Карлхен. — Впрочем, это не имеет значения, потому что памятник должен не глядеть, а выглядеть. Вот так, замечательно. Ты производишь неизгладимое впечатление. Стоп! С этого момента больше не шевелись!
Он подлетел к Норберту и снова уселся на его большой рог.
— Теперь у тебя есть все, что должен иметь настоящий властелин, — сказал он, — даже памятник. Да еще какой! Такому можно только позавидовать. Все грядущие поколения будут с восхищением взирать на тебя и благоговейным шепотом повторять твое имя: Норберт Накендик! Разве что тебя или твой памятник свергнут. Впрочем, это одно и то же.
Носорог, боясь шевельнуться, озабоченно скосил глаза на Карлхена Кламмерце и, не размыкая губ, промычал:
— Что ты имеешь в виду?
— Случается, — радостно прочирикал Карлхен, — что властелина свергают. Например, во время революции. А когда властелин свергнут, тогда, естественно, сносят и его памятник. Потому что если кто-нибудь покусится на памятник властелина, который еще не свергнут, то его, разумеется, немедленно посадят в тюрьму или казнят. Разве что он успеет убежать.
— Минуточку, — остановил его Норберт, — объясни.
— Ах, — небрежно промолвил Карлхен, — не беспокойся об этом, толстячок. Кому нынче свергать тебя? Или твой памятник, что, как я уже говорил, одно и то же. Разве что ты сам себя свергнешь.
— Каким образом? — растерялся Норберт. — Что значит «сам себя свергнешь»?
— Если ты, к примеру, спустишься с постамента, — ответил Карлхен, — то тем самым свергнешь свой памятник. Далее одно из двух: либо ты еще властелин, либо уже нет. Если ты свергнешь себя как властелина, тебе придется себя казнить, потому что во время революций действуют именно так. Но если ты свергнешь свой памятник, то, будучи властелином, ты тоже должен будешь себя казнить, разве что успеешь сбежать до того, как сам себя арестуешь. Это же ясно, как апельсин!
— Проклятие, — пробормотал Норберт, — я и не представлял, насколько это обременительно.
— Н-да, — подтвердил Карлхен, — поэтому-то лишь выдающиеся личности и удостаиваются памятников. Однако у тебя теперь уйма времени, чтобы как следует все обдумать. Прощай, толстячок! А я поищу себе другое пристанище, где смогу спокойно заниматься своим ремеслом. Ведь одним тобой сыт не будешь.
С этими словами волоклюй улетел, и его щебет звучал подобно звонкому смеху.
А Норберт Накендик остался стоять памятником самому себе, не осмеливаясь пошевелиться.
Небо окрасил вечерний закат.
Вот уже звезды над степью горят…
Дымка растаяла вместе с зарей.
Степь задремала в полуденный зной.
Норберт стоял и стоял, точно вылитый из бронзы, устремив в будущее победоносный взгляд, хотя был близорук. Он был очень доволен тем, что обладал памятником.
И так он простоял несколько дней и ночей, погрузившись в дремоту. Он многое бы отдал за то, чтобы хоть одним глазком взглянуть на себя со стороны, если уж не осталось никого, кто мог бы им восхищаться. Несомненно, он представлял собой грандиозное зрелище!
Однако мало-помалу он начал испытывать голод, весьма, надо заметить, сильный голод, можно даже сказать, невыносимый голод.
«А что, если я быстренько спущусь вниз, — подумал он, — и набью полный рот травы? Никто ведь этого не увидит».
Но в ту же секунду он ужасно испугался самого себя. Ведь подобный шаг означал бы, что он собирается свергнуть собственный памятник или, скорее, себя как властелина. Или кого там еще? Он принялся мучительно думать.
Небо окрасил вечерний закат.
Вот уже звезды над степью горят…
Дымка растаяла вместе с зарей.
Степь задремала в полуденный зной.
Норберт стоял на каменной глыбе и старался привести свои мысли в порядок. Итак, если он сойдет вниз, то сам себя свергнет. Если он свергнет себя как памятник, тогда, как властелин, он должен арестовать самого себя и казнить. Разве что он даст деру прежде, чем как властелин это заметит. Но так дело не пойдет. Если же он свергнет себя как властелина, то ему придется удирать от самого себя как мятежнику, в противном случае он схватит самого себя и казнит. Но может ли он сбежать, сам того не заметив? Так тоже ничего не получается. Стало быть, ему не остается ничего другого, как неподвижно стоять здесь, иначе случится беда.
Но поскольку отчаянное чувство голода от этого решения ничуть не уменьшилось, в Норберте Накендике начало медленно нарастать недоверие, недоверие к самому себе. Неужели он стал своим злейшим врагом? Может, он до сих пор просто не замечал этого? Он решил на всякий случай зорко присматривать за собой и ни на секунду не выпускать себя из виду, даже во время сна. Ах, он готов был с собою разделаться!
Норберта Накендика действительно можно было обвинить в чем угодно, только не в том, что слово у него расходилось с делом.
Однако его бдительность в отношении самого себя не мешала ему худеть все сильнее и сильнее. И постепенно носорог съежился внутри своего мощного панциря до жалкого комочка. Наконец Норберт Накендик усох и ослаб так, что ноги его уже не держали. И он шлепнулся наземь, но смотри-ка — панцирь продолжал стоять!
Норберт, или то, что от него еще осталось, вывалился из своих могучих доспехов и кубарем скатился с каменной глыбы, которая служила ему постаментом. Низвержение прошло довольно болезненно, так как кожа у Норберта была нежной, словно у молочного поросенка. Тем не менее он обрадовался такому повороту событий, потому что памятник его не был свергнут, а он все-таки получил возможность поесть.