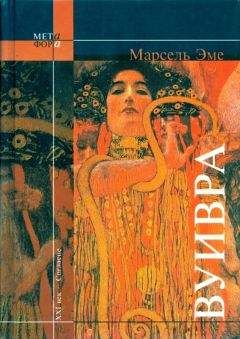— Вы бы доставили нам такое удовольствие, — вздохнул ослик.
— Послушайте, — оборвали их родители, — оставьте своего дядюшку в покое, идите-ка на луг. Достаточно он на вас насмотрелся.
Гостя немного удивило, что они сказали «своего дядюшку», будто он приходился дядей ослику и лошадке. Но ослик и лошадка так ему понравились, что он и не подумал обидеться. Уходя, дядя Альфред без конца оборачивался, помахивая им своим зонтиком.
Вскоре ослика и лошадку стали кормить намного хуже. Запасы сена сильно уменьшились, и родители в первую очередь заботились о том, чтобы его было достаточно для волов и коров: волы прилежно работали, а коровы давали хорошее молоко. Ну, а овса ослик и лошадка вообще не видели уже давным-давно. Им даже не разрешали гулять в лугах — надо было дать траве вырасти, скоро сенокос. Они могли пастись только в оврагах и по обочинам дорог.
Родители были не настолько богаты, чтобы прокормить всех своих животных, поэтому решили продать волов и заставить работать осла и лошадь. И вот однажды утром отец запряг лошадь в телегу, а мать отправилась в город на рынок, нагрузив осла двумя мешками овощей. В первый день родители были с ними очень терпеливы. На второй они ограничились замечаниями. Потом пошли упреки, а то и попросту ругань. Лошадь с перепугу вконец растерялась и уже не знала, когда идет вкривь, а когда вкось. Тогда отец так грубо потянул поводья, что удила жестоко поранили ее губы и от боли у нее вырвалось ржание.
Однажды на высоком подъеме лошадь, выбившись из сил, стала двигаться с трудом и останавливаться на каждом шагу. Груз был слишком тяжел, и с непривычки она не могла его вытянуть. Сидя на телеге с вожжами в руках, отец злился из-за того, что лошадь идет так медленно, слишком часто останавливается, и ее снова надо погонять, чтобы она шла дальше. Сначала он только понукал ее, прищелкивая языком. Это не помогало, он стал браниться, вышел из себя и проорал, что в жизни не видел такой дрянной клячи. Услышав это, лошадь от изумления чуть не упала.
— Эй, ты! Н-но! — кричал отец. — Н-но! Ну и дрянь. Ну подожди, я заставлю тебя работать!
В бешенстве он несколько раз пригрозил ей кнутом, а потом и стеганул по боку. Лошадь не издала ни звука, но повернула голову и таким грустным взглядом посмотрела на отца, что кнут выпал у него из рук, и он покраснел до ушей. Соскочив с телеги, он обнял лошадь за шею и стал просить прощения за грубость.
— Я и забыл, кто ты мне. Понимаешь, мне показалось, что у меня просто обыкновенная лошадь.
— Все равно, — сказала она. — Даже и обыкновенную лошадь нельзя так сильно бить кнутом.
Отец пообещал, что впредь будет следить за собой и не позволит себе так злиться; он и вправду долго обходился без кнута. Но однажды, когда он уж очень спешил, отец не сдержал слова и стеганул лошадь по ногам.
Вскоре это вошло у него в привычку, и он хлестал бедное животное не раздумывая. А если вдруг у него и появлялись смутные угрызения совести, он только пожимал плечами, говоря:
— Либо у тебя есть лошадь, либо нет. В конце концов, должен же я заставить ее слушаться.
Ослику тоже трудно было позавидовать. Каждое утро, с тяжелой ношей на спине, он шел в город на рынок, и это в любую погоду! Когда шел дождь, мать раскрывала зонт, но ей было совершенно наплевать, что ее ослик мокнет.
— Раньше, — говорил он, — когда я был девочкой, ты бы не позволила мне мокнуть под дождем.
— Если бы с ослами надо было обращаться так же бережно, как с детьми, — отвечала мать, — толку бы от тебя не было никакого, и уж не знаю, что бы мы тогда стали вообще с тобой делать.
Не только лошади, но и ослику приходилось терпеть побои. Как это случается с ослами, он порой бывал очень упрямым. На перекрестках он иногда ни с того ни с сего резко останавливался и отказывался идти дальше. Сначала мать пыталась уговорить его лаской.
— Ну, послушай, — говорила она, поглаживая его, — будь умницей, Дельфиночка. Ты же всегда была хорошей, послушной девочкой…
— Нету больше никакой Дельфиночки, — отвечал ослик, даже не сердясь. — Есть только осел, который не хочет двигаться с места.
— Слушай, перестань упрямиться, хуже будет! Считаю до десяти. Думай!
— Все обдумано!
— Раз, два, три, четыре…
— Я и шага не сделаю.
— …пять, шесть, семь…
— Скорее уши дам отрезать.
— …восемь, девять, десять! Ну, пеняй на себя!
И на ослика сыпался целый град палочных ударов, так что в конце концов он сдавался и шел дальше. Но самым ужасным в новой жизни для ослика и лошадки была разлука. Ни в школе, ни дома Дельфина и Маринетта раньше ни на час не разлучались. А осел и лошадь днем работали врозь, вечерами же, когда они наконец встречались, были так изнурены, что перед тем, как заснуть, только и успевали пожаловаться друг другу на жестокость хозяев. И потому они с нетерпением ждали воскресенья.
В этот день они были свободны и могли проводить его вместе: хотели — шли гулять, хотели — оставались в конюшне. Они упросили родителей позволить им играть с их куклой, которую им положили в кормушку на соломенную постельку. Рук у них теперь не было, они не могли ни покачать, ни одеть, ни причесать ее, в общем, не могли заботиться о ней так, как это обычно требуется кукле. Вся игра заключалась в том, чтобы смотреть на нее и разговаривать с ней.
— Это я, твоя мама Маринетта, — говорила лошадь. — О, вижу-вижу, ты заметила, что я немного изменилась.
— Это я, твоя мама Дельфина, — говорил ослик. — Ну не смотри так на мои уши.
Под вечер они щипали травку вдоль дорог и подолгу разговаривали о своих бедах. Лошадь запальчиво обличала хозяев.
— Удивительно, — говорила она, — как другие животные позволяют так грубо с собой обращаться! Ладно еще мы-то, свои! Но если бы они не были моими родителями, я бы уж точно давно от них сбежала.
Лошадь не могла сдержать рыданий, а за ней и ослик без конца шмыгал носом.
Но вот однажды воскресным утром родители привели на конюшню человека в синей блузе. Он остановился возле лошади и сказал грубым голосом, обернувшись к родителям, стоявшим у него за спиной:
— Это именно та лошадь. Ее я на днях и видел на дороге. О, память у меня прекрасная: однажды увижу лошадь — так узнаю ее из тысячи. Такая уж у меня профессия.
Он рассмеялся и добавил, дружески похлопав лошадку по боку:
— Славная лошадка. Я бы сказал, вполне в моем вкусе.
— Но мы показали ее просто чтобы сделать вам приятное, — сказали родители. — На большее и не рассчитывайте.
— Ну да, все так говорят, — хмыкнул он, — а потом передумывают.
Тем временем он все вертелся вокруг лошади, осматривал ее, ощупывал ей живот и ноги.
— Может, хватит? — сказала ему лошадь. — Знаете, мне ваши замашки не очень-то нравятся.
Толстяк только хихикнул и, раздвинув ей губы, стал осматривать зубы. Затем, повернувшись к родителям, сказал:
— А если я прибавлю еще две сотни?
— Нет, нет, — сказали родители и покачали головой, — хоть две, хоть три… Пустое это все!
— А если пять?
Родители немного помедлили с ответом. Они сильно покраснели и не решались поднять глаз.
— Нет, — прошептала мать так тихо, что ее едва можно было расслышать. — О, нет!
— А если тысячу? — выкрикнул человек в блузе, и его грубый, совсем как у людоеда, голос напугал лошадку и ослика. — Ну, что? Если я тысячу прибавлю?
Отец хотел было что-то ответить, но осекся, закашлялся и дал понять толстяку, что лучше им поговорить на свежем воздухе. Они вышли во двор и там быстро поладили.
— Насчет цены мы договорились, — сказал барышник. — Но прежде чем купить ее, я хочу, чтобы она прошлась и пробежалась передо мной.
Это услышал кот, дремавший на краю колодца. Он тут же побежал на конюшню и сказал на ухо лошади:
— Когда хозяева выведут тебя во двор, хромай все время, пока этот тип будет смотреть на тебя.
Лошадь послушалась совета. Перешагнув порог конюшни, она притворилась, что у нее болит нога, и захромала.
— Вот те на, еще не хватало! — сказал толстяк родителям. — Вы же мне не сказали, что у нее нога больная. Это меняет дело.
— Да она притворяется, — заверили его родители. — Еще утром у нее все четыре ноги были здоровые.
Но толстяк и слушать ничего больше не хотел и ушел, не глядя на лошадь. Родители отвели ее обратно в конюшню. Настроение у них было испорчено.
— Ты нарочно это сделала, — проворчал отец. — Тварь проклятая, я уверен, что нарочно!
— Тварь проклятая? — переспросил ослик. — Нечего сказать, милое обращение к родной дочери! Аи да родители!