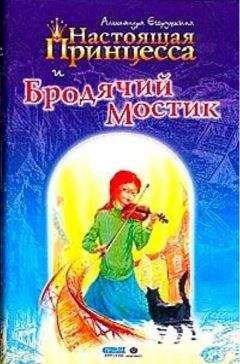Чашки, поварешки, ушаты, крынки, латки, горшки и квашни, ну, всяку к делу подходяшшу посуду выташшим под звездной дождь. Дождь в посудах устоится, свет угомонится, стихнет. Мы в бочки солъем, под бочки хмелю насыплем.
Пиво тако крепко живет! Мы этим пивом добрых людей угошшам во здоровье, а полицейских злыдней этим же пивом бывало, так звезданем, что от нас кубарем катятся.
Нас-то самих это пиво и веселит и молодит; У нас кто часто пьет, лет до двести живет.
Да это не сказка кака, а взаболь у нас так: ведь кругом народ знаюшший, свой, соврать не дадут; у нас так и зовется: "Не любо — не слушай".
Был я в лесу в саму ранну рань, день только начинался. И дождик веселый при солнышке цветным блеском раскинулся.
Это друг-приятель мой дождь урожайной хорошего утра проспать не хотел.
Дожжик урожайной, а мне посадить нечего, у меня только топор с собой. Ткнул я топор топоришшем в землю. И-и, как выхвостнулся топор!
Топоришше тонкой лесинкой высоко вверх выкинулось. Ветерком лесинку-топоришше во все стороны гнет. А топор — парень к работе напористой.
Почал топор дерева рубить, обтесывать, хозяйственно обделывать. Понапрасну время не терят.
Я от удивленья только руками развел, а передо мной по лесной дороге избы новорублены рядами выставают. Избы с резными крылечками и с поветями. У каждой избы для колодца сруб и у каждой избы своя баня. Бани двери прихлопнули — приучаются тепло беречь.
Я под избенны углы кругляши подсунул, избы легонько толкнул и с места сшевелил.
Домов-обнов длинной черед покатился к нашей деревне.
Наша деревня до той поры была мала — домишков ряд был коротенькой и звалась не по-теперешному.
Как новы домы заподкатывались! Народ без лишних разговоров дома по угору над рекой поставил рядом длинным на многоверстье.
С того часу и деревню нашу стали звать Уймой.
Только вот мы, живя в ближности друг с дружкой, привыкли гоститься. В старой деревне мы с конца в конец перекликались, в гости зазывали и сами скоро отзывались. У нас не как в других местах — где на перьвой зов кланяются, на второй благодарят, после третьего зову одеваются.
Народ у нас уважительной: по перьвому зову — идут, по перьвому слову — за стол садятся, по перьвому угошшенью — выпивают.
В новой деревне из конца в конец не то что не докричишься, а в день до конца не дойдешь. Мы уж хотели железну дорогу прокладывать — в гости ездить (трамвая в те поры ишшо не знали).
Для железной дороги у нас железа мало было.
Дело известно: при хотенье будет и уменье.
Мы для скорости движенья на обоих концах Уймы длинны пружины в землю концом воткнули. За верхной конец уцепимся, пружину нагнем. Пружина в обратный ход выпрямится. Тут только отцепись — и лети, куда себя нацелил: до середины деревни или до самого конца.
Мы себе подушки подвязывали, чтобы мягко садиться было. Наши уемски для гостьбы на подъем легки.
Уйма выстроилась, выставилась. Окнами на реку и на заречье любуется. Сама себя показыват, стоит красуется.
А топор работат без устали, у меня так приучен был. Новы овины поставил, мельницу выстроил. Я ему, топору-то новой заказ дал: через речки мосты починить, по болотам переходы досчаты перекинуть. Да как завсегда в старо время хорошему делу полицейской да чиновник помешали.
Полицейской с чиновником проезжали лесом, где топор хозяйствовал. Топор по ним размахнулся, да промахнулся. Ох, в каку ярость вошли и полицейской и чиновник!.. Лесинку-топоришше сломали, на куски приломали и спохватились:
— Ахти да ахти! Мы поторопились, недосмотрели, с чего началось, от кого повелось, кого штрафовать и сколько взять!
Много жалели о промахе своем чиновник и полицейской.
Так чиновники и полицейский до самого последнего своего времени остались неотесанными.
А то ишшо вот песни.
Все говорят: "В Москву за песнями". Это так зря говорят. Сколь в Москву ни ездят, а песен не привозили ни разу.
А вот от нас в Англию не столь лесу, сколь песен возили. Пароходишши большушши нагрузят, таки больши, что из Белого моря в окиян едва выползут.
Девки да бабы за зиму едва напевать успевали. Да и старухи, которы в голосе, тоже пели — деньги зарабатывали. Мы сами и в толк не брали, что можно песнями торговать. У нас ведь морозы-то живут на двести пятьдесят да на триста градусов, ну, всякой разговор на улице и мерзнет да льдинками на снег ложится.
А на моей памяти еще доходило до пятисот. Стары старухи сказывают — до семисот бывало, ну да мы и не очень верим.
Что не при нас было, то, может, и вовсе не было.
А на морозе, како слово скажешь, так и замерзнет до оттепели. В оттепель растает, и слышно, кто что сказал. Что тут смеху быват и греха всякого! Которо сказано в сердцах (понасердки), ну, а которо издевки ради — новы и хороши слова есть. Ну, которы крепки слова, те в прорубь бросам. У нас крепким словом заборы подпирают, а добрым словом старухи да старики опираются. На крепких словах, что на столбах, горки ледяны строят.
Новой улицей идешь — вся мороженой руганью усыпана, — идешь и спотыкаешься. А нова улица вся в ласковых словах — вся ровненька да ладненька, ногам легко, глазам весело. Зимой мы разговору не слышим, а только смотрим, как сказано. Как-то у проруби сошлись наши Анисья да сватья из-за реки. Спервоначалу ладно говорили, сыпали слова гладкими льдинками на снег, да покажись Анисье, что сватья сказала кисло слово (по льдинке видно).
— Ты это что, — кричит Анисья, — курва эдака, како слово сказала? Я хошь ухом не воймую, да глазом вижу! И пошла и пошла, ну, прямо без удержу, ведь до потемни сыпала! Да уж како сыпала, — прямо клала да руками поправляла, чтобы куча выше была. Ну, сватья тоже не отставала как подскочит да как начала переплеты ледяны выплетать! Слово-то все дыбом!
А когда за кучами мерзлых слов друг дружку не видно стало, разошлись. Анисья дома свекровке нажалилась, что сватья ей всяческих кислых слов наговорила.
— Ну, и я ей навалила! Только бы теплого дня дождаться — оно хошь и задом наперед начнет таять, да ее, ругательницу, наскрозь прошибет.
Свекровка-то ей говорит:
— Верно, Анисьюшка, уж вот как верно, и таки ли они горлопанихи на том берегу, — просто страсть. Прошлу зиму и отругиваться бегала, мало не сутки ругались, чтобы всю-то деревню переругать. Духу не переводила, насилу отругала. Было на уме ишшо часик-другой поругаться, да опара на пиво была поставлена, боялась, кабы не перестояла. Посулила ишшо на спутье забежать поругать.
А малым робятам забавы нужны, — каки ни на есть бабушки, матери-потаковшшицы подол на голову накинут от морозу, на улицу выбежат, наговорят круглых слов да ласковых. Робята катают, слова блестят, звенят. Которы робята окоемы — дак за день-то много слов ласковых переломают. Ну, да матери на ласковы слова для робят устали не знают.
А девки — те все насчет песен. Выйдут на улицу, песню затянут голосисту, с выносом. Песня мерзнет колечушками тонюсенькими — колечушко в колечушко, буди кружево жемчужно-бральянтово отсвечиват цветом радужным да яхонтовым. Девки у нас выдумшшицы. Мерзлыми песнями весь дом по переду улепят да увесят. На конек затейно слово с прискоком скажут. По краям частушки навесят. Коли где свободно место окажется, приладят слово ласковое: "Милый, приходи, любый, заглядывай".
Весной на солнышке песни затают, зазвенят. Как птицы каки невиданны запоют. Вот уж этого краше нигде ничего не живет!
Как-то шел заморской купец (зиму у нас проводил торговым делам), а известно-купцам до всего дело есть всюду нос суют. Увидал распрекрасно украшенье — морожены песни, и давай ахать от удивленья да руками размахивать:
— Ах, ах, ах! Кака антиресность диковинна, без бережения на самом опасном месте прилажена. — Изловчился да отломил кусок песни, думал — не видит никто. Да, не видит как же! Робята со всех сторон слов всяческих наговорили и ну-в него швырять. Купец спрашиват того, кто с ним шел:
— Что такое за штуки, колки какие, чем они швыряют?
— Так, пустяки.
Иноземец с большого ума и «пустяков» набрал с собой. Пришел домой, где жил, «пустяки» по полу рассыпал а песню рассматривать стал. Песня растаяла да только в ушах прозвенела, а «пустяки» по полу тоже растаяли да как заподскакивают кому в нос, кому во что. Купцу выговор сделали, чтобы таких слов больше в избу не носил.
Иноземцу загорелось песен назаказывать в Англию везти на полюбованье да на послушание.
Вот и стали девкам песни заказывать да в особый яшшик складывать, таки термояшшики прозываются. Песню уложат да обозначат, которо перед, которо зад, чтобы с другого конца не начать. Больши кучи напели, а по весне на первых пароходах отправили. Пароходишши нагрузили до трубы. В заморску страну привезли. Народу любопытно: каки таки морожены песни из Архангельского? Театр набили полнехонек.