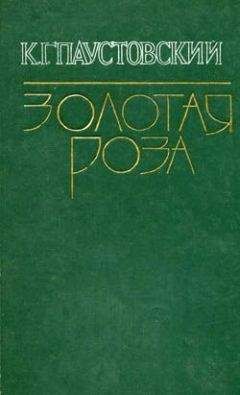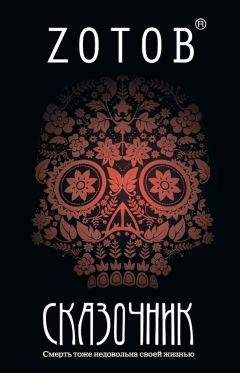Утки оглушительно ружье за пароходну трубу сосчитали: думали, труба в отпуску и прогуливат себя по лесу. Не все ей по воде носиться, а захотела по горе походить. Утки таким манером раздумывают, по воде разводье ведут, плясом кружатся. Туман тоньшать стал, утки в мою сторону запоглядывали. Я пальнул. Разом все утки кверху лапками перевернулись и стихли.
Надо уток достать, надо в воду залезать, а мне неохота, вода холодна. Кабы Розка, собака, была, она бы живо всех уток вытащила. Да Розка дома осталась.
Жона шаньги житны пекла. Об эту пору у Розки большое дело – попа Сиволдая к дому не допускать. А поп по деревне бродил, носом поводил, выискивал, чем поживиться.
Розка – умна животна: пока все не съедено, пока со стола не убрано, ни попа, ни урядника полицейского, ни чиновника (не к ночи будь помянуто, чтобы во снах не привиделся) и близко не подпустит. Коли свой человек идет: кум, сват, брат, Розка хвостом вилят, мордой двери отворят.
Сижу, про собаку раздумываю, трубку покуриваю, про уток позабыл.
К уткам понятие и все ихны чувства воротились. Утки зашевелились, в порядок привелись, крылами замахали и вызнялись. «Вот, – думаю, – достанется мне от жоны за эко упущенье».
Утки вызнялись, тесно сбились, совещание ведут. Я опять пальнул. Уток оглушило, они на раскинутых крыльях не падают, не летят, на месте держатся.
Тут-то взять дело просто. Я веревку накинул и всю стаю к дому потащил.
Дождь набежал. Я под уток стал и иду, будто под зонтиком. Меня вода не мочит, меня дождь не берет. Дождь пробежал, солнышко припекло, я под утками иду – меня жаром не печет.
Дома утки отжились, ко двору пришлись. Для уток у меня во дворе пруд для купанья, двор да задворки для гулянья. Как замечу уткински сборы к полету-отлету, я оглушительно ружье покажу, утки хвосты прижмут, домашностью займутся. Яйца несут, утят выводят.
Вскорости у всех уемских хозяек утки развелись. Всем веселы хлопоты, всем сыто.
Поп Сиволдай выбрал время, когда собаки Розки дома не было, пришел ко мне и замурлыкал таки речи:
– Я, Малина, не как други прочи, я не прошу у тебя ни уток, ни утят, дай ты мне ружья твоего, я сам на охоту пойду, скоро всех больше всех разбогатею.
От попа скоро не отвяжешься – дал ему ружье. Сиволдай с вечера на охоту пошел. Ружье ему не под силу нести, он ружье то в охапке, то волоком тащил. А к месту притащился вовремя и в пору.
На озере уток много, больше чем я словил. Поп Сиволдай ружьем поцелил и курок нажал, да ружье-то перевернулось, выпалило и оглушило.
Очень хорошо оглушило, только не уток, а Сиволдая! Попа подкинуло да на воду на спину бросило. Поп не потоп, весь день по озеру плавал вверх животом. Эко чудо увидали старухи-грибницы, ягодницы. Увидали и запричитали:
Охти, дело невиданно,
Дело неслыханно.
Плават поп поверху воды,
Он руками не махат,
Он ногами не болтат,
Больше диво, большо чудо!
Поп молчит.
Не поет, не читат,
У нас денег не выпрашиват.
Это сама больша удивительность!
С того дня стали озеро святым звать. Рыба в озере перевелась, утки на озеро садиться перестали. Озер у нас много. Мы на других охотимся, на других рыбу ловим. А Сиволдай на воде отлежался, из озера выкарабкался. На охоту ходить потерял охоту.
Наше крестьянско терпенье было долго, а и его не на всяк час хватало. Из терпенья-то мы выходили, да голыми руками не много наделашь. Начальство нас надоумило, само того не думая, оружье сделать. Надоумило на свою шею.
Богатей да полицейски у нас в Уйме кирпичной завод поставили. Пока планы заводили, построение производили, нам заработки коробами сулили.
А нам лишь бы от начальства бывалошного подальше, заработки мы сами сыскать умели. Но начальству перечить не стали, да нашего согласья не порато и спрашивали.
Мы на планы смотрели с видом непонимающим, а что надобно нам – усмотрели. Для виду мы за заработками погнались.
Взялись мы всей Уймой трубу заводску смастерить. Сделали.
По виду труба – какой и быть надо, а по сущей сути это было ружье оглушительно, далекострельно. Ствол калибром не номер четыре, как у кума Митрия, не номер два, как у меня, а больше номера первого. Коли не знать, что под крышей есть, дак очень даже настояща заводска труба, и дым пущала.
Завод в ход пошел. Мы спины гнули, начальство да богатей карманы набивали, нас обдували.
Мы большим долгим терпеньем долго держались. Да не стерпели, лопнуло наше терпенье.
И дело-то произошло из-за никудышности – из-за репы, из-за брюквы пареной.
Наши хозяйки во все годы в рынке парену брюкву, репу продавали. В рынке не то что теперь – грязь была малопролазна. Для сбереженья товаров и самих себя мы в грязь поперечины бросили, доски постелили, горшки, шайки с пареным товаром расставили и торгуем. Кому на грош, кому на полторы копейки.
Вдруг полицыместер на паре лошадей налетел. Полицейски с чиновниками с нас за все про все содрать успели. Для полицыместера у нас ничего не осталось. Мы и за карманы не беремся.
Увидал полицыместер, что мы не торопимся ему взятку собирать, и крик поднял. От егонной ругани ветер пошел – хошь овес вей.
Полицыместер раскипятился, зафыркал и скочил на доски, на самы концы. И забегал по доскам, запритоптывал.
Доски одна за одной концами вскидывают, горшки, шайки выкидывают. Пареной брюквой, пареной репой палить взялись, будто заправскими снарядами.
Наперьво полицыместеру и полицейским отворены глотки заткнуло, глаза захвостало-улепило. Вторым делом тем же ладом чиновникам прилетело, влетело. Горшки, шайки в окнах правлений рамы вышибли и ни одного ни чиновника, ни чиновничишка не обошли.
Простого народу не тронуло, зато в губернатора цельна шайка влипла.
Губернатор брюкву, репу прожевал, от брюквы, репы прочихался, духу вобрал и истошно закричал:
– Непочтительность! Взяток не дают! Не ту еду подают, каку мы хотим! Бунт!
И скорой минутой царю депешу послал, бегом бежать заставил.
У царских генералов ума палата, у царя самого больше того. Царь в ответ приказ строгий отписал: «Арестовывать, расстреливать, ссылать. Усмирить в одночасье». Это за брюкву-то, за репу-то!
Тут вот наша труба-ружье оглушительно нам и понадобилось. Повернули мы в городску сторону, ружейну часть примкнули. Всей деревней зарядили. Всей деревней выпалили.
Всех чиновников до одного, всех полицейских – начисто всех оглушило. Всякого на месте, как был, припечатало: что делал – за тем делом и оставило людям добрым напоказ, в поученье.
Мы в городу собрались гулянкой по этому случаю. Робят взяли зверинец из чиновников поглядеть.
И увидали мы, нагляделись, насмотрелись на чиновничьи дела, на ихну царску службу.
Оглушенные чиновники деревянными стояли, их хошь прямо смотри, хошь кругом обходи.
Ловко чиновники лапу в казну запускали, видать, – дело давно знакомо. Друг дружки в карманы залезали, друг дружки ножку подставляли. Умеючи взятки брали, с бедняков последню рубаху снимали. Насмотрелись мы на чиновников, кляузы строчащих и на нас ехидны бумаги сочиняющих. Заглянули мы в бумаги, а там для нас и силки, и капканы, и волчьи ямы, и всяки рогатки, всяки ловушки наготовлены.
Подумать только – на что чиновники ум свой тратили!
Дух от чиновников хуже крысиного. Мы окошки, двери настежь отворили для проветриванья.
Все награбленное добро отобрали, голодному люду роздали. Отобрали все из рук, из карманов, из столов, из шкапов. Добра, денег было много, и все чужо – не чиновничье.
Крючкотворными делами все печки во всем городе истопили.
Малы робята и те поняли, како тако у чиновников царских «законно основанье». Малы робята и те заговорили:
– Как так долго царска сила держится, коли законно основанье у ней воровство да полутовство?
Робята на выдумку мастера. Чиновников казенными печатями к месту, который где застат, припечатали. Мы свое дело сделали, домой ушли. Чиновники в себя пришли, увидели, что их секреты известны всему свету. Пробовали на нас снова шуметь. Да в нас уж страху нисколько не осталось, а кулаки-то сжались.
Моя жона картошку копала. Крупну в погреб сыпала, мелку в избу таскала в корм телятам. Копала – торопилась, таскала – торопилась и от поля до избы мелкой картошки насыпала дорожку.
Время было гусиного лету. Увидали гуси картошку, сделали остановку для кормежки. По картошкиной дорожке один-по-один, один-по-один – все за вожаком дошли гуси до избы и в окошко один за одним – все за вожаком. Избу полнехоньку набили, до потолка. Которы гуси не попали, те в раму носами колотились, крылами толкались и захлопнули окошки.
Дом мой по переду два жилья: изба, для понятности сказать, кухня да горница. Мы с жоной в горнице сидим, шум слышим в избе, будто самовар кипит, пиво бродит и кто-то многоголосно корится, ворчит, ругается.
Двери толконули – не открываются. Это гуси своей теснотой приперли. Слышим: заскрипело, затрещало и охнуло.