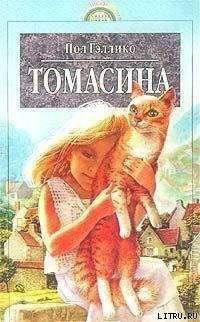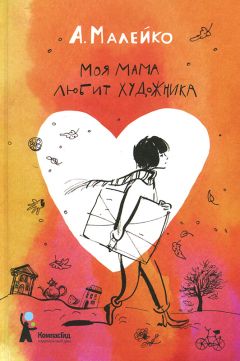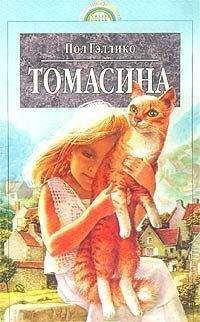С несвойственной ей расторопностью Мэри Руа вгляделась в окна обоих домов. В них никого не было. Миссис Маккензи гладила, распевая гимны (по-видимому, раскалённый утюг напоминал ей об адском пламени), отец и Вилли трудились над собакой.
Мэри Руа легко и быстро перелезла через забор, подбежала к мусорной куче и схватила свою покойницу, как шотландская вдова, разыскавшая тело на поле боя. Она положила её на плечо, поставила другие ящики, влезла на забор, отодвинула их ногой и спрыгнула. Потом, прижимая к груди ещё не остывшую кошку, она отворила калитку и побежала по улице.
Хьюги, сын лерда, живший в большом поместье, в миле от берега, заслышал плач и вышел к ней, когда она, выбившись из сил, опустилась на траву у высокого дуба.
— Ой, Мэри! — сказал он. — Что с Томасиной?
Мэри подняла мокрое лицо и увидела, что её друг и защитник стоит рядом с ней на коленях. А он, услышав приторный запах, сам сообразил, что случилось, и осторожно начал:
— Может, оно и лучше… Может, она была не-из-ле-чи-мо больна…
Мэри взглянула на него с отчаянием и ненавистью. Мягкосердечный Хьюги понял, что так говорить нельзя, но совершенно растерялся от криков, слёз и рыданий. «Папа и не пробовал! — кричала Мэри. — Он плохой… Ты плохой… Все вы…» В конце концов она уткнулась лицом в мох и стала скрести ногтями землю.
Хьюги не понимал, что можно так плакать из-за кошки — у них в парке их кишело сотни, и он не отличал одну от другой. Но он слышал, что люди с горя умирают, и очень испугался за Мэри. Он был достаточно взрослым, чтобы понять: не можешь утешить — отвлеки.
— Вот что, Мэри, — сказал он. — Мы её как следует похороним. Прямо сейчас! У нас есть атласная коробка, туда её и положим. Устелем коробку вереском, он очень мягкий… Ты слышишь меня, Мэри Руа?
Она его слышала. Рыдала она всё тише и тише, хотя и не поднимала головы. А он, ободрённый успехом, развивал свою мысль:
— Устроим шествие через весь город. Ребят соберём много. Ты наденешь траур, пойдёшь за гробом и будешь громко рыдать.
Мэри Руа приподнялась и посмотрела на него поверх Томасининого тела.
— У миссис Маккензи есть чёрная шаль, — сообщила она.
— А я возьму у мамы накидку на голову, — подхватил Хьюги. — И Джеми будет играть на волынке! Он учился, очень здорово играет. Представляешь — в юбочке, в шапочке с лентами и дудит «Плач по Макинтошу».
Мэри Руа слушала как зачарованная. Глаза её стали круглыми, словно монетки, и слёзы на них высохли. Хьюги говорил:
— Я тоже надену юбочку, накину плед на плечи, возьму кинжал и сумку… Все будут на нас смотреть и приговаривать: «Вот идет вдова Макдьюи» — это про тебя, а про Томасину: «Упокой её, Господи!»
— Правда, Хьюги?
— Ещё бы! — Он сам увлёкся своей выдумкой. — И мы поставим надпись!
— Какую такую надпись?
— Ну, вроде могильного камня. Сперва ставят дощечку… если спешат… — Его синие глаза загорелись, и, запустив пальцы в тёмные кудри, он медленно продекламировал: «Здесь лежит Томасина… зверски умерщвлена… 26 июля 1957 года».
Мэри Руа с обожанием глядела на него, а он говорил:
— Я скажу надгробное слово… «прах во прах возвратится…» похвалю её… распишу, как ей хорошо на небе… Мы забросаем могилу цветами. Джеми опять задудит… и мы устроим поминки…
Мэри обняла его, склонившись над Томасиной.
— Вот и молодец! — сказал Хьюги, вытер ей лицо чистым платком и помог высморкаться. Потом он аккуратно отряхнул её фартучек от листьев и травинок.
— Я её возьму, — заторопился он. — Положу в коробку. Позову Джеми, соберу ребят. А ты беги, одевайся! Что за похороны без вдовы?
Она послушно побежала к дому, улыбаясь и плача. Больше всего её умиляла фраза «Зверски умерщвлена».
Ветеринар Эндрью Макдьюи не видел похорон своей последней жертвы — он направлялся со своим другом, священником, на другой конец города, к слепому нищему. Немного раньше, часа в три, Энгус зашёл в лечебницу, чтобы узнать, как здоровье собаки-поводыря.
— Что ж, — сказал ему Макдьюи, предвкушая восторг и удивление, — глаза я твоему Таммасу спас. Через три недели собака будет в полном порядке.
— Вот и хорошо, — ответил священник. — Так я и знал.
— Мне льстит, что ты так веришь в меня… — начал Макдьюи.
— Нет, — простодушно перебил его отец Энгус, — я не из-за тебя. Я…
Макдьюи сердито рассмеялся.
— А, Боженька! Ясно… Знал бы ты, сколько раз мы теряли всякую надежду! Собака просто чудом осталась жива… — И он остановился, услышав, какое слово произнёс. Энгус Педди весело кивнул.
— Я о чуде и просил. Знаешь, у нас судят по плодам. А в тебе я, конечно, не сомневался. Пойдём скажем Таммасу, а?
— Иди скажи сам. На что я тебе?
— Он тебя просил: «Спасите мои глаза». Ты их спас.
— Вот как? А ты вроде только что говорил…
— Нет, это ты говорил. Ничего, не ты первый путаешь Бога с Его орудием. Пойдём, Эндрью, тебе полезно увидеть, как Таммас обрадуется.
Перед уходом они зашли поглядеть на собаку. Она лежала на чистой соломе, задние лапы её были в гипсе, передние — в бинтах. Но глаза её глядели зорко, острые ушки торчали вверх, и, завидев гостей, она забила хвостом по полу.
— Какая красота… — сказал священник.
— Не балуйте её, а то привяжется, — обратился ветеринар к Вилли Бэнноку, хлопотавшему неподалёку. — Она приучена к одному человеку.
Таммас Моффат жил на другом конце города. Проходя узкими улочками, Энгус Педди услышал знакомые звуки и приостановился.
— Странно… — сказал он. — Где-то играют «Плач по Макинтошу», а сегодня нет никаких похорон.
— Померещилось тебе, — сказал Макдьюи, и они пошли дальше.
Старый Таммас жил на втором этаже оштукатуренного дома, крытого толем. На тротуаре играли дети; на трубе сидела одноногая чайка, белая с серым; на пороге стояла старуха в чепце, с метлой и совком.
— Таммас дома? — спросил отец Энгус.
— Дома, — отвечала старуха, — вроде не выходил.
— Спасибо. Мы к нему поднимемся, если разрешите. Доктор принёс ему добрую весть насчёт собаки.
Они пошли вверх по узкой, тёмной лестнице, священник впереди, ветеринар — сзади. Всё было тихо, только снизу доносился шорох метлы, а сверху — хлопанье крыльев.
На полпути священник остановился.
— Эндрью… — сказал он.
— Что там? — откликнулся ветеринар.
Но священник не объяснил, что остановило его.
— Ладно, сейчас увидим, — сказал он, тяжёлыми шагами добрёл до площадки и постучал в дверь. Ответа не было. Он подождал и тихо вошёл.
— Господи… — сказал он.
Слепой сидел лицом к двери. Голова у него не упала, он как будто прислушивался, ждал шагов, когда явилась смерть.
Макдьюи рванулся к нему, припал ухом к груди, схватил руку. Сердце не билось и пульса не было, хотя рука ещё не остыла.
— Всё, — сказал ветеринар.
Священник кивнул.
— Да, да… Я знал… — проговорил он.
— Я же спас его глаза! — крикнул Макдьюи. — Где твой Бог?
И туг отец Энгус рассердился. Он выпрямился, круглое лицо вспыхнуло, глаза за очками сверкнули гневом.
— Не смей! — воскликнул он. — Будь она проклята, твоя наглость!
— Проклинать вы горазды! — не уступил Макдьюи. — А ты мне ответь!
— Он — Бог, а не твой слуга! — кричал Энгус Педди, наверное, впервые в жизни. — Ты что, хочешь, чтобы Он тебе льстил? Восхищался твоей работой?
— Нет, ты скажи, — орал Макдьюи, — за что вот этому благодарить твоего Бога?
Они препирались прямо над мёртвым телом, а старый нищий словно судил их гнев, и прощал его как истинно человеческую слабость.
Священник первым пришёл в себя.
— Таммас стар, — сказал он. — Он умер мирно. Он умер надеясь. — Отец Энгус поднял голову, и его кроткие глаза глядели так виновато, что друг его вздрогнул. — А ты прости меня, Эндрью.
— Да и я хорош, — сказал Макдьюи. — Разорался над мертвецом, обидел тебя…
— Нет, не меня! — живо откликнулся отец Энгус. — Я не то имел в виду. Ну что ж, мы оба перенервничали, хотя я-то ещё на лестнице знал.
С необычайной, нежной осторожностью он закрыл слепому глаза и накинул ему на голову плед. Вдруг он почувствовал, что ещё что-то неладно.
— Мэри сидела в приёмной, — сказал он. — Вроде, кошка у неё заболела. Что там было потом?
Макдьюи с поразительной четкостью увидел всё, о чем начисто забыл. Он даже ощутил сладкий запах эфира и услышал, как беспомощно колотят в дверь маленькие кулаки.
— Пришлось усыпить, — сказал он. — Видимо, менингиальная инфекция. Так верней. Всё равно бы не выжила.
Мирное лицо Энгуса Педди стало и растерянным, и суровым.
— Господи, — проговорил он. — Господи милостивый!..