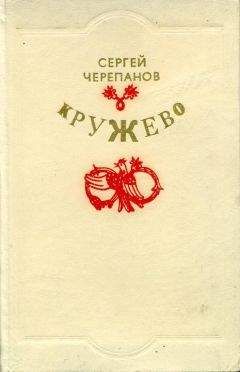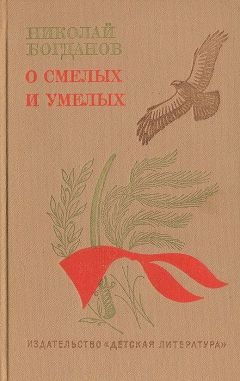Велел приказчику примерить на нее суконную шубу на лисьем меху, шаль пуховую на плечи накинул, кружева достал, разное шелковье, сапожки с подковками. Закружил Макариху, с толку сбил. Напоследок увел в горницу, сладким чаем напоил, попотчевал пряниками с изюмом. Та наелась, напилась и совсем разомлела. Какой ей почет, уважение! Навсегда бы так.
— За всяко-просто в гости ко мне приходи, — поклонился ей Толстопятов. — Мужик твой богатый стал. Пудами, поди-ко, гребет серебро. Только, что-то утаивает. Гляжу на тебя и дивлюсь: при таком богатстве, а одежка на тебе вся худая.
У Макарихи дух перехватило. Пуще прежнего на Недрему озлилась. Ту прохожую вспомнила. Ну, и призналась:
— Не видала, не слыхала, куда Недрема припрятал клад. Хитрит он. Обманывает. Мне на расход даже пятака не дает.
— А ты что же: схитрить не умеешь? — упрекнул Толстопятов. — С коих это пор повелось от жены секрет заводить? Коли Недрема клад утаивает — догляди за ним и заставь поделиться. Довольно проживать в его курной избе. Пора барыней стать. Не управишься с кладом — меня позови. Завсегда приду к тебе на подмогу.
А Недрема продолжал чеботарить день-денски и ночь-ноченски и даже во вниманье не взял, чего-де Макариха редко стала на печи лежать, ухватами не гремит, не ругается, а с него глаз не сводит.
Снова понадобилось ему прикупить в лавке кожевенного товару. Сходил в огород, взял из дупла серебряных зерен, а не приметил, как Макариха подглядывала за ним из-за плетня.
В тот же день указала она Толстопятову потайное место.
Тот вмиг ее надоумил:
— Истопи баню пожарче и, покуда в ней будет угарно, пошли Недрему попариться. Угорит он в бане, занеможет и нам помешать не поспеет.
Попарился мужик, нахватался угару, еле живой вышел оттуда.
В избе лег на лежанку, маялся-маялся и уснул
Принялись Макариха и Толстопятов из дупла серебро выгружать. Три ведра набрали. Потом Макариха сундук притащила, Толстопятов дубовую бочку прикатил. Каждый для себя стал стараться. Оба разохотились побольше добыть, себе выгадать, ну и подрались: Толстопятов вцепился в Макариху, а та схватила его за сивую бороду.
Потом порешили березу срубить, чем всякий раз в дупло руку просовывать.
Ударил Толстопятов по комлю березы топором — топорище сломалось. Притащил пилу. Ширк-ширк пилой-то, и пила не берет.
Вдруг теплый ветер подул, зашумела береза, а из дупла талая вода ручьем хлынула, и все серебро, что в ведра, в сундук и в бочку было накидано, тоже растаяло.
Макариха в голос запричитала. Толстопятов глаза вылупил: сплыло богатство! Везде вода, ступить некуда!
Обернулся, хотел убежать, а позадь него, на срубе сама Серебрянка оказалась. Схватилась за бока и ну-ко хохотать над ним:
— Попляши, чтобы этот день не запамятовать!
Ударила в ладошки, у Толстопятова ноги сами ходуном заходили, от сапог во все стороны брызги полетели, борода и брови закуржавели.
Так он и добрался до своего дома вприсядку, а дома хватился в шкатулку заглянуть, куда складывал прежнее серебро, и в ней вода.
Макариха, покуда ревмя-ревела и ругалась на Серебрянку, к месту пристыла. Ладно, что Недрема вышел из избы и помог ей из наледи выбраться.
В избе он ее упрекнул:
— Не хотела по-людски жить в чести, вот снова лежи на печи, дави спиной кирпичи!
Было лихоманок двенадцать сестер: Трясуха, Ознобиха, Утриха, Полудниха, Вечериха, Жаруха, Холодиха, Желтуха, Суставиха, Ломиха, Худоба и самая младшая — Охохоня.
У всех глаза лягушачьи, носы вострые, волосья на голове схожи с осокой болотной, ноги кривые, руки когтистые. И одежу они на себе никогда не меняли: у каждой зеленый сарафан и кофта зеленая, сроду не стиранные.
Одна Охохоня выродилась чудной красавицей: лицом белая, синеглазая, русая коса чуть-чуть не до пят. Верба в вешнем цвету и то, поди, краше ее не бывала!
Любой бы парень пал перед ней на колени, не то взял бы на руки и понес на край света, кабы она посреди людей могла жить.
Осенью лихоманки убегали вслед за перелетными птицами. Не глянется им в холоду. Но едва минует зазимье, сойдут снега, стают льды, а на болотах забунчат комары — сестры снова возвращались на людей хворь наводить.
Заночует мужик в поле, где комарья полно, не то из болота воды напьется, и лихоманка уже тут как тут.
Если нападет на него Жаруха — мужик весь в жару мается, если Ознобиха — согреться не может, если Трясуха — почнет трястись, хоть к постели привязывай.
Бывало, вместе с Трясухой и другие сестры робить мужику не давали: Утриха с утра, Полдниха в полдень, Вечериха после солнцезаката.
Потрясут, прознобят хворого, остальных сестер призовут: Суставиху, Ломиху, Желтуху, Худобу.
Надо мужику-то пашню пахать, хлеба сеять, к сенокосу и жатве готовиться, а он желтущий, худющий на горячей печи под овчинным тулупом отлеживается и сам не в себе.
Охохоня была нравом помягче, только тоской изводила. Днем от людей сторонилась, зато ночью подкрадется к иному сонному молодому мужику или неженатому парню, погладит его рукой по лицу, и станет тому свет не мил, дорогая жена опостылит, сладкая шанежка во рту загорчит, а холостой молодец уже не спешит к подружке на свиданку, сколь бы та его ни звала.
Самой-то Охохоне еще не приходилось испробовать, что это такое — любовь? В лесах ее сестры вели знакомство только с Лешаками-уродами, у коих вся радость — по пенькам скакать, в траве валяться да в болотах воду мутить. Соберутся с ними в круг, вертятся, визжат, хохочут, всяко кривляются. Ночные совы с испугу плачут, филины ухают. В другой раз Лешаки на мужицких полях спелые хлеба ногами помнут, лежбищ наделают или ради озорства, вместе с лихоманками, нагонят в деревню тучи комаров и мошкары.
И никто ее ничему доброму не наставлял. Старшие сестры Трясуха и Ознобиха беспрестанно меж собой похвалялись, сколь уж людей погубили, а у Желтухи было одно на уме:
— Ты, Охохоня, никого не жалей: мы всякому человеку зловредные!
Стала Охохоня их гульбища избегать. Присядет у болота на кочку, при свете ясного месяца посмотрит на свое отражение в стоячей воде и в одиночестве запечалится.
Начала людям завидовать. У них день на день не похож. Всяко живут: и в горе, и в радости, в трудах и заботах, но ничего им не в тягость. Куда ни повернись, в кою сторону ни взгляни — ни у кого на лице неприметно унылости. А поют-то, поют-то сколь душевно и мило! Век можно слушать — не надоест!
Довелось ей однажды неподалеку от деревенского игрища притаиться. Когда свечерело, парни и девки собрались тут за околицей на поляне. Все нарядные, умыты, причесаны. Сначала попели, потом под гармонь топотуху сплясали, кадриль сыграли и так-то ли закружились в разгулье — хоть гром греми, хоть молния в небе сверкай, не стали бы разбегаться.
И стало с ней твориться что-то неладное: от гармониста не могла глаз отвести! Глядела и глядела на него. Шибко он казался приглядным. И статен собой, и кучерявый, удалой и сильный. Развернет гармонь, крутым плечом поведет, запосвистывает, так будто жаром обдаст!
Совсем ей тошнехонько стало, когда приметила, что девушка, которая рядом с гармонистом сидела, припадала к нему головой и ласково чего-то нашептывала.
Не умолкало игрище допоздна. Погасло вечернее зарево. Темнота навалилась. Гармонист пошел провожать свою девушку.
Охохоня не утерпела, тайком проследила за ними.
Возле ворот, прощаясь, девушка печально промолвила:
— Кажись, разлюбил ты, Паша, меня? За весь вечер даже не обнял...
— Что-то было мне сегодня не по себе, — сказал гармонист. — Там, на игрище, чудилось, будто кто-то неотрывно смотрел на меня...
— Неужто тебя изурочили?
— За что, про что? Я ни с кем не дрался, не ссорился.
— Не захворал ли?
Мало-помалу успокоил подружку, а потом, уже в одиночестве, еще долго сидел у себя во дворе на крылечке и думал о чем-то...
А Охохоня так и не догадалась, что же с ней сотворилось? Начала тосковать пуще прежнего. Порой страшилась: сама-то не захворала ли? Насмотрелась на парня, а может, и ему тоже дано хворь наводить? Но отчего же от этой людской хвори такое томление: то горько, то сладко, то радостно, то хочется слезами улиться?
Три дня и три ночи провела она в камышах на болоте. Не пила, не ела, на себя в тихую воду смотрела.
Сестры пробовали у нее допытаться, с чего, мол, она так запечалилась, уж не досадил ли ей кто-нибудь из Лешаков? Не добились и отступились; ведь никакое горе им было неведомо.
Помаялась этак-то Охохоня и покинула их, в другую местность за сто верст убежала. Надеялась там, вдалеке, от людской хвори избавиться, а стало еще того тяжелее. Не пощадила бы себя, в огонь бы кинулась, лишь бы с Пашей свидеться снова.
Так и вернулась обратно.
Сестры принялись ее ругать, насмехаться:
— Ты бездельница и лентяйка! Небось, на ворожбу Старой Кати поддалась и супроть нее не умеешь управиться?