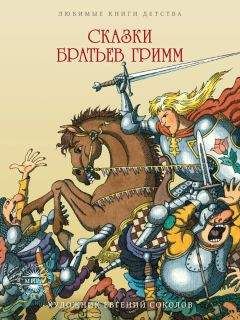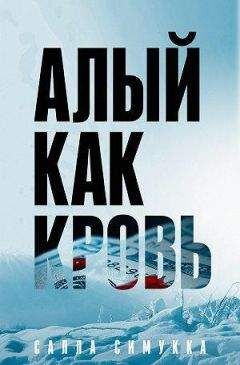Стихи произвели большое впечатление на нашего медика. Ему очень понравилась их идея, и он подумал, что хорошо бы раздобыть такие очки. Немного навострившись, можно было бы научиться читать в сердцах людей, а это гораздо интереснее, чем заглядывать в будущий год, — ведь он все равно наступит рано или поздно, а вот в душу к человеку иначе не заглянешь.
«Взять бы, скажем, зрителей первого ряда, — думал медик, — и посмотреть, что делается у них в сердце, — должен же туда вести какой-то вход, вроде как в магазин. Чего бы я там ни насмотрелся, надо полагать! У этой вот дамы в сердце, наверное, помещается целый галантерейный магазин. А у этой он уже опустел, только надо бы его как следует помыть да почистить. Есть среди них и солидные магазины. Ах, — вздохнул медик, — знаю я один такой магазин, но, увы, приказчик для него уже нашелся, и это единственный его недостаток. А из многих других, наверное, зазывали бы: «Заходите, пожалуйста, к нам, милости просим!» Да, вот зайти бы туда в виде крошечной мысли, прогуляться бы по сердцам!»
Сказано — сделано! Только пожелай — вот все, что надо калошам счастья. Медик вдруг весь как-то съежился, стал совсем крохотным и начал свое необыкновенное путешествие по сердцам зрителей первого ряда.
Первое сердце, в которое он попал, принадлежало одной даме, но бедняга медик сначала подумал, что очутился в ортопедическом институте, где врачи лечат больных, удаляя различные опухоли и выправляя уродства. В комнате, куда вошел наш медик, были развешаны многочисленные гипсовые слепки с этих уродливых частей тела. Вся разница только в том, что в настоящем институте слепки снимаются, как только больной туда поступает, а в этом сердце они изготовлялись тогда, когда из него выписывался здоровый человек.
Среди прочих в сердце этой дамы хранились слепки, снятые с физических и нравственных уродств всех ее подруг.
Так как слишком задерживаться не полагалось, то медик быстро перекочевал в другое женское сердце, — и на этот раз ему показалось, что он вступил в светлый обширный храм. Над алтарем парил белый голубь — олицетворение невинности. Медик хотел было преклонить колена, но ему нужно было спешить дальше, в следующее сердце, и только в ушах его еще долго звучала музыка органа. Он даже почувствовал, что стал более хорошим и чистым, чем был раньше, и достоин теперь войти в следующее святилище, оказавшееся жалкой каморкой, где лежала больная мать. Но в открытые настежь окна лились теплые солнечные лучи, чудесные розы, расцветшие в ящичке под окном, качали головками, кивая больной, две небесно-голубые птички пели песенку о детских радостях, а больная мать просила счастья для своей дочери.
Потом наш медик на четвереньках переполз в мясную лавку; она была завалена мясом, — и куда бы он ни сунулся, всюду натыкался на туши. Это было сердце одного богатого, всеми уважаемого человека, — его имя, наверно, можно найти в справочнике по городу.
Оттуда медик перекочевал в сердце его супруги. Оно представляло собой старую, полуразвалившуюся голубятню. Портрет мужа был водружен на ней вместо флюгера; к ней же была прикреплена входная дверь, которая то открывалась, то закрывалась — в зависимости от того, куда поворачивался супруг.
Потом медик попал в комнату с зеркальными стенами, такую же, как во дворце Розенборг, но здесь зеркала были увеличительные, они все увеличивали во много раз. Посреди комнаты восседало на троне маленькое «я» обладателя этого сердца и восхищалось своим собственным величием.
Оттуда медик перебрался в другое сердце, и ему показалось, что он попал в узкий игольник, набитый острыми иголками. Он было решил, что это сердце какой-нибудь старой девы, но ошибся: оно принадлежало награжденному множеством орденов молодому военному, о котором говорили, что он «человек с сердцем и умом».
Наконец бедный медик выбрался из последнего сердца и, совершенно ошалев, еще долго никак не мог собраться с мыслями. Во всем он винил свою разыгравшуюся фантазию.
«Бог знает что такое! — вздохнул он. — Нет, я определенно схожу с ума. И какая дикая здесь жара! Кровь так и приливает к голове. — Тут он вспомнил о своих вчерашних злоключениях у больничной ограды. — Вот когда я заболел! — подумал он. — Нужно вовремя взяться за лечение. Говорят, что в таких случаях всего полезнее русская баня. Ах, если бы я уже лежал на полке».
И он действительно очутился в бане на самом верхнем полке, но лежал там совсем одетый, в сапогах и калошах, а с потолка на лицо ему капала горячая вода.
— Ой! — закричал медик и побежал скорее принять душ.
Банщик тоже закричал: он испугался, увидев в бане одетого человека.
Наш медик, не растерявшись, шепнул ему:
— Не бойся, это я на пари, — но, вернувшись домой, первым делом поставил себе один большой пластырь из шпанских мушек на шею, а другой на спину, чтобы вытянуть дурь из головы.
Наутро вся спина у него набухла кровью — вот и все, чем его облагодетельствовали калоши счастья.
V. ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПИСАРЯ
Наш знакомый сторож между тем вспомнил про калоши, которые нашел на улице, а потом оставил в больнице, и забрал их оттуда. Но ни лейтенант, ни соседи не признали этих калош своими, и сторож отнес их в полицию.
— Да они как две капли воды похожи на мои! — сказал один из полицейских писарей, поставив находку рядом со своими калошами и внимательно ее рассматривая. — Тут и опытный глаз сапожника не отличил бы одну пару от другой.
— Господин писарь, — обратился к нему полицейский, вошедший с какими-то бумагами.
Писарь поговорил с ним, а когда опять взглянул на обе пары калош, то уж и сам перестал понимать, которая из них его пара — та ли, что стоит справа, или та, что слева.
«Мои, должно быть, вот эти, мокрые», — подумал он и ошибся: это были как раз калоши счастья. Что ж, полиция тоже иногда ошибается.
Писарь надел калоши и, сунув одни бумаги в карман, а другие — под мышку (ему нужно было кое-что перечитать и переписать дома), вышел на улицу. День был воскресный, стояла чудесная погода, и полицейский писарь подумал, что неплохо было бы прогуляться по Фредериксбергу.
Молодой человек отличался редким прилежанием и усидчивостью, так что пожелаем ему приятной прогулки после многих часов работы в душной канцелярии.
Сначала он шел, ни о чем не думая, и калошам поэтому все не представлялось удобного случая проявить свою чудодейственную силу.
Но вот он повстречал в одной аллее своего знакомого, молодого поэта, и тот сказал, что завтра отправляется путешествовать на все лето.
— Эх, вот вы опять уезжаете, а мы остаемся, — сказал писарь. — Счастливые вы люди, летаете себе, где хотите и куда хотите, а у нас цепи на ногах.
— Да, но ими вы прикованы к хлебному дереву, — возразил поэт. — Вам нет нужды заботиться о завтрашнем дне, а когда вы состаритесь, получите пенсию.
— Так-то так, но вам все-таки живется гораздо привольнее, — сказал писарь. — Писать стихи — что может быть лучше! Публика носит вас на руках, и вы сами себе господа. А вот попробовали бы вы посидеть в суде, как мы сидим, да повозиться с этими скучнейшими делами!
Поэт покачал головой, писарь тоже покачал головой, и они разошлись в разные стороны, оставшись каждый при своем мнении.
«Удивительный народ эти поэты, — думал молодой чиновник. — Хотелось бы поближе познакомиться с такими натурами, как он, и самому стать поэтом. Будь я на их месте, я бы в своих стихах не стал хныкать. Ах, какой сегодня чудесный весенний день, сколько в нем красоты, свежести, поэзии! Какой необыкновенно прозрачный воздух! Какие причудливые облака! А трава и листья так сладостно благоухают! Давно уже я так остро не ощущал этого, как сейчас».
Вы, конечно, заметили, что он уже стал поэтом. Ко внешне совсем не изменился, — нелепо думать, что поэт не такой же человек, как все прочие. Среди простых людей часто встречаются натуры гораздо более поэтические, чем многие прославленные поэты. Только у поэтов гораздо лучше развита память, и все идеи, образы, впечатления хранятся в ней до тех пор, пока не найдут своего поэтического выражения на бумаге. Когда простой человек становится поэтически одаренной натурой, происходит своего рода превращение, — и такое именно превращение произошло с писарем.
«Какое восхитительное благоухание! — думал он. — Оно напоминает мне фиалки у тетушки Лоны. Да, я был тогда еще совсем маленьким. Господи, и как это я ни разу не вспомнил о ней раньше! Добрая старая тетушка! Она жила как раз за Биржей. Всегда, даже в самую лютую стужу, на окнах у нее зеленели в банках какие-нибудь веточки или росточки, фиалки наполняли комнату ароматом; а я прикладывал нагретые медяки к обледенелым стеклам, чтобы можно было смотреть на улицу. Какой вид открывался из этих окон! На канале стояли вмерзшие в лед корабли, огромные стаи ворон составляли весь их экипаж. Но с наступлением весны суда преображались. С песнями и криками «ура» матросы обкалывали лед; корабли смолили, оснащали всем необходимым, и они наконец уплывали в заморские страны. Они-то уплывают, а я вот остаюсь здесь; и так будет всегда; всегда я буду сидеть в полицейской канцелярии и смотреть, как другие получают заграничные паспорта. Да, таков мой удел!» — и он глубоко-глубоко вздохнул, но потом вдруг опомнился: «Что это такое со мной делается сегодня? Раньше мне ничего подобного и в голову не приходило. Верно, это весенний воздух так на меня действует. А сердце сжимается от какого-то сладостного волнения».