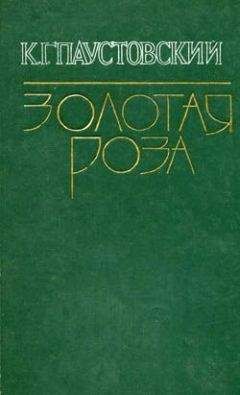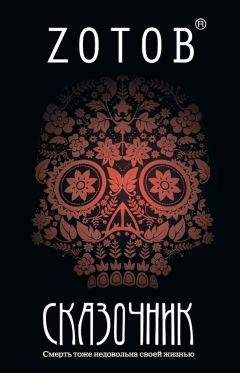Туча хорошо обхожденье понимат. Далеко не пошла, над моим огородом раскинулась и пала теплым дождичком.
Ну, и урожай был на моем огороде! Столько назрело да выросло, что из огорода выперло. Которо в поле, то ничего, а одна репина на дорогу выбоченилась – ни проехать ни пройти.
Дак мы всей деревней два дня в репе ход прорубали. Кто сколько вырубит, столько и домой везет. Старательно рубили. Дорогу вырубили в репе таку, что два воза с сеном в ряд ехали.
А капуста выросла така, что я одним листом дом от дождя закрывал. Учены всяки приезжали, мне диплом посулили. У меня и рама для него готова – как пошлют, так вставлю.
На том же огороде, из которого репа выперла на дорогу, хмель вырос-вызнялся. Да какой! Кажну хмелеву ягоду охапкой домой перли. А котора хмелева ягода больша, ту катили с «Дубинушкой»!
Стали пиво варить с новоурожайным хмелем. Пиво сварено, бродит.
А поп у нас был. Сиволдаем мы его звали: отец Сиволдай да отец Сиволдай. Настояще имя позабыли, подходяще и это было.
Терпежа нет у Сиволдая дождать, ковды пиво выбродит.
– Я, – говорит, – братия, для пива готов, значит, и пиво для меня готово!
Нам что. Брюхо не наше – пей. Назудился Сиволдай пива. Вот в ем пиво-то и забродило, заурчало. Сиволдая горой разнесло.
Мы с диву только пятимся – долго ли до греха! А Сиволдай на месте пораскачался, да и заподымался, да и полетел. И вопит:
– Людие, киньте веревку, а то далеко улечу!
А мы от удивленья рты разинули и закрыть забыли. Куды тут веревка.
Сиволдая отнесло в надполье. Поп летит и перекувыркивается через голову. Потом объяснил, что это он земны поклоны клал. Видно, большого лишку выпил поп – его как прорвало!
Дак хошь верь, хошь не верь – через семь деревень радугой!
Воротился Сиволдай без вредимости. Упал на кучу сена, свежекошено было.
Теперича летать нипочем. Примус разведут, приладятся и летят. А в старо время только наша деревня летала.
В больши праздники, в гулянки мы летно пиво особливо варили.
Как которы пьяны забуянят – сейчас мы этого пива летного чашку али ковш поднесем.
– Выпей-ко, сватушко!
Пьяной что понимат? Вылакат – его и выздынет над деревней. За ногу веревку привяжем, чтобы далеко не улетел, да прицепим к огороду али к мельнице. Спервоначалу в одно место привязывали, дак пьяны-то драку учиняли в небе. Ну, за веревку их живым манером растаскивали жоны; своих мужиков кажна к своему дому на веревке, как змеёк бумажной на бечевке, волокут. Мужики пьяны в небе руками машут, жон колотить хотят, а жоны с земли мужиков отругивают во всю охотку. Мужики протрезвятся в вольном воздухе скоро, как раз к тому времени, как бабы ругаться устанут. Тут жоны веревки укоротят, ну мужья и дома.
Заболели у меня зубы от редьки. И то сказать – редька больно сахарна выросла в то лето. Уж мы и принялись ее ись.
Ели редьку кусками, редьку ломтями, редьку с солью, редьку голью, редьку с квасом, редьку с маслом, редьку мочену, редьку сушену, редьку с хлебом, редьку с кашей, редьку с блинами, редьку терту, редьку с маком, редьку так! Из редьки кисель варили, с редькой чай пили.
Вот приехала к нам городска кума Рукавичка, она привередлива была, важничала: чаю не пила, только кофей, и первы восемнадцать чашек без сахару! А как редьку попробовала, дак и первы восемнадцать, и вторы восемнадцать, и дальше – все с редькой.
Я не оговариваю, пускай ее пьет в полну сытость, этим хозяев славит.
А я до того навалился на сахарну редьку, что от сладкого зубы заболели, и так заболели, что свету невзвидел!
По людскому совету на стену лез, вызнялся до второго этажа, в горнице по полу катался. Не помогло.
Побежал к железной дороге на станцию. Поезд отходить собирался. Я за второй вагон с конца веревку привязал, а другой конец прицепил к зубу больному. Хотел, привязаться к последнему вагону, да там кондухтор стоял.
Поезд все свистки проделал и пошел. И я пошел. Поезд шибче, я – бегом. Поезд полным ходом. Я упал, за землю ухватился. И знаешь что? Два вагона оторвало!
«Ох, – думаю, – оштрафуют, да еще засудят». В старо-то время нашему брату хошь прав, хоть неправ – плати.
Я разбежался, в вагоны толконулся да так поддал, что вагоны догонили-таки поезд, и у той самой станции, где им отцепляться надобно.
Покеда бегал, вагоны толкал, зубна боль у меня из ума выпала, зубы болеть перестали.
Домой воротился, а кума Рукавичка с жоной все еще кофей с редькой пьют.
Держал на уме спросить: «Кольку чашку, кумушка, пьешь да куды в тебя лезет?» А язык в другу сторону оборотился, я и выговорил:
– Я от конпании не отстатчик, наливай-ко, жона, и мне.
Сидел я у моря, ждал белуху. Она быть не сулилась, да я и ждал не в гости, а ради корысти. Белуху мы на сало промышлям.
Да ты, гостюшко, не думай, что я рыбу белугу дожидался, – нет, другу белуху, котора зверь и с рыбиной и не в родстве. Может стать, через каку-нибудь куму-канбалу и в свойстве.
Так вот сижу, жду. По моим догадкам, пора быть белухину ходу. Меня товарищи артель караулить послали. Как заподымаются белы спины, я должен артели знать дать.
Без дела сидеть нельзя. Это городски жители бывалошны без дела много сиживали, время мимо рук пропускали, а потом столько же на оханье тратили. «Ах, да как это мы недосмотрели, время мимо носу, мимо глазу пропустили. Да кабы знатье, кабы ум в пору!»
Я сидел, два дела делал: на море глядел, белуху ждал да гарпун налаживал.
Берег высокой, море глубоко; чтобы гарпун в воду не опустить, я веревку круг себя обвязал и работаю глазами и руками. Море взбелилось!
Белуха пришла, играт, белы спины выставлят, хвостами фигурныма вертит.
Я в становище шапкой помахал, товарищам знать дал. Гарпуном в белушьего вожака запустил и попал!
Рванулся белуший вожак и так рывком сорвал меня с высокого берега в глубоку воду. Я в воду угрузнул мало не до дна. Кабы море в этом месте было мельче верст на пять, я мог бы о каку-нибудь подводность головой стукнуться.
Все белушье стадо поворотило в море, в голоменье – в открыто место, значит, от берега дальше.
Все выскакивают, спины над водой выгибают, мне то же надо делать. Люби не люби – чаще взглядывай, плыви не плыви – чаще над водой выскакивай!
Я плыву, я выскакиваю да над водой спину выгинаю.
Все белы, я один черный. Я нижно белье с себя стащил, поверх верхней одежи натянул. Тут-то и я по виду взаправдашней белухой стал: то над водой спиной выстану, то ноги скручу и бахилами как хвостом вывертываю. Со стороны поглядеть – у меня от белух никакого отлику нет, ничем не разнился, только весом меньше, белухи пудов на семьдесят, а я своего весу.
Пока я белушьи фасоны выделывал, мы уж много дали захватили, берег краешком чуть темнел.
Иностранны промышленники на своих судах досмотрели белуху, а меня не признали; кабы признали меня – подальше бы увернулись. Иностранцы в наших местах безо всякого дозволенья промысел вели. Они вороваты да увертливы.
Иностранцы погнались за белухами да за мной. Я в воде булькаю и раздумываю: настигнут, в спину гарпун влепят.
Я кинул в вожака запасной гарпун да двумя веревками от гарпунов на мелко место правлю. Мы-то, белушье стадо, проскочили через мель, а иностранцы с полного разбегу на мели застопорились.
Я вожжи натянул и к дому повернул. Тут туман растянулся по морю и толсто лег на воду.
Чайки в тумане летят, крыльями шевелят, от чаячьих крыл узорочье осталось в густоте туманной. Те узоры я в память взял, нашим бабам, девкам обсказал.
И по ею пору наши вышивки да кружева всем на удивленье!
Я ногами выкинул и на тумане «мыслете»' написал [название буквы "М", первая буква имени Малина]. Так «мыслете» и полетело к нашему становищу.
Я дальше ногами писать принялся и отписал товарищам:
«Други, гоню стадо белух, не стреляйте, сетями ловите, чтобы мне поврежденья не сделать».
Мы с промыслом управились. Туман ушел. А иностранцы перед нами на мели сидят. Мы море раскачали!
Рубахами, шапками махали-махали. Море сморщилось, и волна пошла, и валы поднялись, и белы гребешки побежали, вода стенкой поднялась и смыла иностранны суда, как слизнула с мели.
Сегодня, гостюшко, я тебя угощу для разнолику кислыма штями – это квас такой бутылошный, ты, поди, и не слыхивал про квас такой. Скоро и званья не останется от этого названья.
В нашей Уйме кислы шти были первеющи, и такой крепости, что пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
Я вот охотник и на белку с кислымя штями завсегда хожу. Приослаблю пробку, белку высмотрю и палю. И шкурка не рвана, очень ладно выходит. Раз я в белку только наметил стрелить, гляжу – волки обступили. Глазищами сверлят, зубищами щелкают по-страшному.
А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков – да по мордам, да по глазам!
Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. Вот они закружились, визгом взялись, всяко сображенье потеряли.