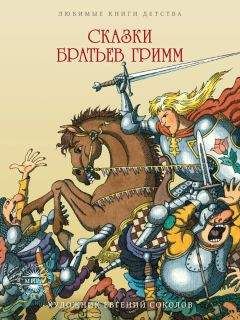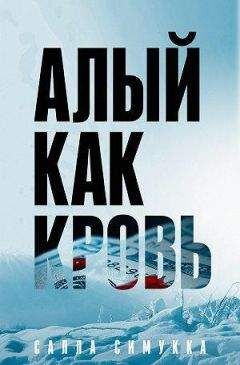ШТОПАЛЬНАЯ ИГЛА
Перевод А. Ганзен
ила-была штопальная игла; она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка.
— Смотрите, смотрите, что вы держите! — сказала она пальцам, когда они вынимали ее. — Не уроните меня! Упаду на пол — чего доброго, затеряюсь: я слишком тонка!
— Будто уж! — ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию.
— Вот видите, я иду с целой свитой! — сказала штопальная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка.
Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю, — кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру.
— Фу, какая черная работа! — сказала штопальная игла. — Я не выдержу! Я сломаюсь!
И вправду сломалась.
— Ну вот, я же говорила, — сказала она. — Я слишком тонка!
«Теперь она никуда не годится», — подумали пальцы, но им все-таки пришлось крепко держать ее: кухарка накапала на сломанный конец иглы сургуч и потом заколола ею косынку.
— Вот теперь я — брошка! — сказала штопальная игла. — Я знала, что буду в чести: в ком есть толк, из того всегда выйдет что-нибудь путное.
И она засмеялась про себя, — ведь никто не видал, чтобы штопальные иглы смеялись громко, — она сидела в косынке, словно в карете, и поглядывала по сторонам.
— Позвольте спросить, вы из золота? — обратилась она к соседке-булавке. — Вы очень милы, и у вас собственная головка… Только маленькая! Постарайтесь ее отрастить, — не всякому ведь достается сургучная головка!
При этом штопальная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в раковину, куда кухарка как раз выливала помои.
— Отправляюсь в плаванье! — сказала штопальная игла. — Только бы мне не затеряться!
Но она затерялась.
— Я слишком тонка, я не создана для этого мира! — сказала она, лежа в уличной канаве. — Но я знаю себе цену, а это всегда приятно.
И штопальная игла тянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа.
Над ней проплывала всякая всячина: щепки, соломинки, клочки газетной бумаги…
— Ишь, как плывут! — говорила штопальная игла. — они и понятия не имеют о том, кто скрывается тут под ними. — Это я тут скрываюсь! Я тут сижу! Вон плывет щепка: у нее только и мыслей, что о щепках. Ну, щепкой она век и останется! Вот соломинка несется… Вертится-то, вертится-то как! Не задирай так носа! Смотри, как бы не наткнуться на камень! А вон газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что на нем напечатано, а он, гляди, как развернулся!.. Я лежу тихо, смирно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут!
Раз возле нее что-то заблестело, и штопальная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопальная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его:
— Вы, должно быть, бриллиант?
— Да, нечто в этом роде.
И оба думали друг про друга и про самих себя, что они настоящие драгоценности, и говорили между собой о невежественности и надменности света.
— Да, я жила в коробке у одной девицы, — рассказы-вала штопальная игла. — Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по пяти пальцев, и вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство! А ведь занятие у них было только одно — вынимать меня и класть обратно в коробку!
— А они блестели? — спросил бутылочный осколок.
— Блестели? — отвечала штопальная игла. — Нет, блеску в них не было, зато сколько высокомерия!.. Их было пять братьев, все — урожденные «пальцы»; они всегда стояли в ряд, хоть и были различной величины. Крайний — Толстяк, — впрочем, отстоял от других, он был толстый коротышка, и спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только раз; зато он говорил, что если его отрубят, то человек не годится больше для военной службы. Второй — Лакомка — тыкал свой нос всюду: и в сладкое и в кислое, тыкал и в солнце и в луну; он же нажимал перо, когда надо было писать. Следующий — Долговязый — смотрел на всех свысока. Четвертый — Златоперст — носил вокруг пояса золотое кольцо и, наконец, самый маленький — Пер-музыкант — ничего не делал и очень этим гордился. Да, они только и знали, что хвастаться, и вот — я бросилась в раковину.
— А теперь мы сидим и блестим! — сказал бутылочный осколок.
В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок.
— Он продвинулся! — вздохнула штопальная игла. — А я осталась лежать! Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость!
И она лежала, вытянувшись в струнку, и передумала много дум.
— Я просто готова думать, что родилась от солнечного луча, — так я тонка! Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой! Ах, я так тонка, что даже отец мой солнце не может меня найти! Не лопни тогда мой глазок[28], я бы, кажется, заплакала! Впрочем, нет, плакать неприлично!
Однажды пришли уличные мальчишки и стали копаться в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие!
— Ай! — закричал вдруг один из них; он укололся о штопальную иглу. — Смотри, какая штука!
— Я не штука, а барышня! — заявила штопальная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч с нее сошел, и она вся почернела, но в черном всегда выглядишь стройнее, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего.
— Вон плывет яичная скорлупа! — закричали мальчишки, взяли штопальную иглу и воткнули в скорлупу.
— Черное на белом фоне очень красиво! — сказала штопальная игла. — Теперь меня хорошо видно! Только бы не поддаться морской болезни, этого я не выдержу: я такая хрупкая!
Но она не поддалась морской болезни — выдержала.
— Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок, и всегда надо помнить, что ты не то что простые смертные! Теперь я совсем оправилась. Чем ты благороднее, тем больше можешь перенести!
— Крак! — сказала яичная скорлупа: ее переехала ломовая телега.
— Ух, как давит! — завопила штопальная игла. — Сейчас меня стошнит! Не выдержу! Сломаюсь!
Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега; она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину, — ну и пусть себе лежит!
Перевод А. Ганзен
а, так вот, жил-был маленький Тук. Звали-то его, собственно, не Туком, но так он прозвал себя сам, когда еще не умел хорошенько говорить: «Тук» должно было обозначать на его языке «Карл», и хорошо, если кто знал это! Туку приходилось нянчить свою сестренку Густаву, которая была гораздо меньше его, и в то же время учить уроки, а эти два дела никак не ладились зараз. Бедный мальчик держал сестрицу на коленях и пел ей одну песенку за другою, заглядывая в то же время в лежавший перед ним учебник географии. К завтрашнему дню задано было выучить наизусть все города в Зеландии и знать о них все, что только можно знать.
Наконец вернулась его мать, которая уходила куда-то по делу, и взяла Густаву. Тук — живо к окну да за книгу, и читал, читал чуть не до слепоты: в комнате становилось темно, а матери не на что было купить свечку.
— Вон идет старая прачка из переулка! — сказала мать, поглядев в окно. — Она и сама-то еле двигается, а тут еще приходится нести ведро с водой. Будь умником, Тук, выбеги да помоги старушке!
Тук сейчас же выбежал и помог, но, когда вернулся в комнату, было уже совсем темно; о свечке нечего было и толковать. Пришлось ему ложиться спать. Постелью Туку служила старая деревянная скамья со спинкой и с ящиком под сиденьем. Он лег, но все не переставал думать о своем уроке: о городах Зеландии и обо всем, что рассказывал о них учитель. Следовало бы ему прочесть урок, да было уже поздно, и мальчик сунул книгу себе под подушку: он слышал, что это отличное средство для того, чтобы запомнить урок, но особенно-то полагаться на него, конечно, нельзя.
И вот Тук лежал в постели и все думал, думал. Вдруг кто-то поцеловал его в глаза и в губы — он в это время и спал и как будто бы не спал — и он увидал перед собою старушку прачку. Она ласково поглядела на него и сказала:
— Грешно было бы, если бы ты не знал завтра своего урока. Ты помог мне, теперь и я помогу тебе. Господь же не оставит тебя своею помощью никогда!
В ту же минуту страницы книжки, что лежала под головой Тука, зашелестели и стали перевертываться. Затем раздалось:
— Кок-кок-кудак!
Это была курица, да еще из города Кёге![29]
— Я курица из Кёге! — И она сказала Туку, сколько в Кёге жителей, а потом рассказала про битву, которая тут происходила, — это было даже лишнее: Тук и без того знал об этом.
— Крибле, крабле, буме! — и что-то свалилось; это упал на постель деревянный попугай, служивший мишенью в обществе стрелков города Престё. Птица сказала мальчику, что в этом городе столько же жителей, сколько у нее рубцов на теле, и похвалилась, что Торвальдсен был одно время ее соседом[30]. — Буме! Я славлюсь чудеснейшим местоположением!