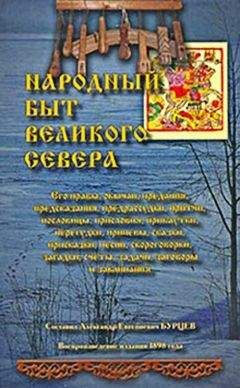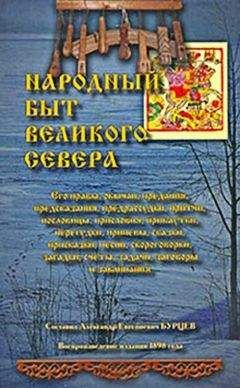Взявши, старик зарезал козла и положил на то место козлячью голову, а попову голову обрал. Вот через несколько часов хватились попа, а его и след простыл. Это всем на удивленье: куды девался поп?
И пошел Ванюха мимо попову дому и увидала его попадья; начала спрашивать: — Ванька, не видал ли моего попа? — Как не видал! Давеча оторвал ему голову. — Ой, Ванька, перестань тебе врать! — Не вру! Поди, посмотри: на назму лежит в соломе.
Пошли развалили солому и нашли туто попа без головы и начали спрашивать у дурака: куды девал голову! — Куда девал? Снес домой и бросил на вышку.
И пошли к Ваньке в дом искать попову голову, долго искали, не нашли, а нашли козлячью и кажут Ваньке: эта Ванька? — Нет, не эта. — Так мы не можем другой найти, ступай, ищи сам. — Ванька влез на вышку и давай ходить, взял козлячью голову и бросил на поветь: на вот, обирайте! — Те посмотрели, покачали головой. — Нет, Ванька, не эта, этот не нашего приходу.
Записано мною лично в Кадниковском уезде.
Жили были старик со старухой; у них был один сын Иванушка-дурачок. Старик помер, а старуха раз и послала Иванушку в лес за грибам. Поди, Ваня, сходи за грибам, наберешь грибов, — наварим да поминки сделаем. — Ну, ладно, я пойду, мама. Взял пестерку большую и пошел в лес, набрал не грибов, а поганок-дехтерников, да мухоморов полную пестерку и пошел домой. Идет он дорогой, а мужик сеет горох. Ваня и сказал ему: дядя! Вырос бы у тя горох не более моих грибов! Мужик на это осердился и давай дурака теребить.
Пришел он домой и плачет. Мать спрашивает его: об чем ты, Ваня, плачешь? Он и разсказал. Мать ему говорит: дурак! Ты не так сказал! Ты бы сказал: дядюшка! Носить тебе — не выносить, возить тебе — не вывозить, вот бы он тебя похвалил. — Ну ладно, мама, — пошел опять, а ему на встречу несут покойника. Поровнялся с ним да и говорит: дядюшки, носить бы вам — не выносить, возить бы вам — не вывозить! — И опять дурака оттеребили.
Пошел домой, плачет. Мать спрашивает: об чем ты, Ваня, плачешь? Он и разсказал. Дурак! Ты не ладно сказал! Ты бы пел: святый Боже, вот бы тебя и похвалили. — Ну ладно, я пойду, мама, спою. Идет, а ему на встречу свадебный поезд. Он и запел: святый Боже! Дружка выскочил и давай теребить дурака. Опять пошел домой дурак и плачет. Мать и спрашивает его: о чем, Ваня, плачешь? — Мама, я иду, едет свадьба, я и запел святый Боже, а они ну меня теребить! — Ой ты, дурак! Ты бы взял гармонию, играл бы да плясал бы, вот тебя и похвалили. — Ну, ладно. Идет, а у мужика горит овин, он и начал играть в гармонью и плясать. Увидал его мужик и давай теребить.
(Потом он заливает свинью, которую начали палить. Мать говорит: ты бы сказал: этим-то кусочком о Христове дне не стыдно разговеться. Дурак пошел и натолкнулся на человека, отправлявшего естественную надобность, сказал, что велела мать, и был опять побит. Мать говорит: ты бы плюнул да отошел. Дурак встречает попа с крестом и плюет. Мать говорит: ты бы сказал: батюшка, благослови меня! Наконец, он попадает на медведя, просит у него благословения и медведь его разрывает).
Жил царь и царица, у них родился сын Иван-царевич. Няньки его качают, никак укачать не могут; зовут отца: «царь-великой государь! Поди, сам качай своего сына». Царь начал качать: «спи, сынок! Спи, возлюбленной! Выростишь большой, сосватаю за тебя Ненаглядную Красоту, трех мамок дочку, трех бабок внучку, девяти братьев сестру». Царевич уснул и проспал трое суток, пробудился — пуще прежняго расплакался. Няньки качают, никак укачать не могут; зовут отца: «царь-великой государь! Поди, качай своего сына». Царь качает, сам приговаривает: «спи, сынок! Спи, возлюбленной! Выростишь большой, сосватаю за тебя Ненаглядную Красоту, трех мамок дочку, трех бабок внучку, девяти братьев сестру». Царевич уснул и опять проспал трое суток; пробудился, еще пуще расплакался. Няньки качают, никак укачать не могут: «поди, великой государь! Качай своего сына». Царь качает, сам приговаривает: «спи, сынок! Спи, возлюбленной! Выростишь большой, сосватаю за тебя Ненаглядную Красоту, трех мамок дочку, трех бабок внучку, девяти братьев сестру». Царевич уснул и опять проспал трое суток. Пробудился и говорит: «давай, батюшка, свое благословение; я поеду жениться». — Что ты, дитятко! Куда поедешь? Ты всего девятисуточной! «Дашь благословение — поеду, и не дашь — поеду!» — Ну, поезжай! Господь с тобой! Иван-царевич срядился и пошел коня доставать; отошел немало от дому и встретил стараго человека. «Куда, молодец, пошел? Волей, али неволей?» — Я с тобой и говорить не хочу! отвечал царевич, отошел немного и одумался: «что же я старику ничего не сказал. Стары люди на ум наводят». Тотчас настиг старика: «постой, дедушка? Про что ты меня спрашивал»? — Спрашивал: куда идешь, молодец? Волей, али неволей? «Иду я сколько волею, а вдвое неволею. Был я в малых летах, качал меня батюшка в зыбке. Сулил за меня высватать Ненаглядную Красоту, трех мамок дочку, трех бабок внучку, девяти братьев сестру». — Хорошо, молодец, учливо говоришь! Только пешему тебе не дойти — Ненаглядная Красотка далеко живет. «Сколь далеко?» — «В золотом царстве, поконец свету Белаго, где солнышко восходит». «Как же быть-то мне? Нет мне молодцу по плечу коня неезжалого, ни плеточки шелковой-недержалой». — Как нет! У твоего батюшки есть тридцать лошадей — все как одна; поди домой, прикажи конюхам напоить их у синя моря: которая лошадь наперед выдвинется, забредет в воду по самую шею и как станет пить — на синем море начнут волны подыматься, из берега в берег колыхаться, ту и бери! «Спасибо на добром слове, дедушка!» Как старик научил, так царевич и сделал; выбрал себе богатырского коня, ночь переночевал, поутру рано встал, растворил ворота и собирается ехать. Проговорил ему конь человеческим языком: «Иван-царевич! Припади к земле; я тя (тебя) трижды пихну». Раз пихнул и другой пихнул, а в третий не стал: «ежели в третий пихнуть, нас с тобой земля не снесет!» Иван-царевич выхватил коня с цепей, оседлал, сел верхом — только и видел царь своего сына! Едет далеким-далеко, день коротается, к ночи подвигается; стоит двор, что город, изба, что терем. Приехал на двор — прямо к крыльцу, привязал коня к медному кольцу, в сени да в избу, Богу помолился, ночевать попросился. «Ночуй, доброй молодец! говорит ему старуха; куды тя Господь понес?» — Ах ты, старая сука! Неучливо спрашиваешь. Прежде напой-накорми, на постелю повали, втепор и вестей спрашивай. Она его напоила-накормила, на постелю повалила и стала вестей выспрашивать. «Был я, бабушка, в малых летах, качал меня батюшка в зыбке, сулил за меня Ненаглядную Красоту, трех мамок дочку, трех бабок внучку, девяти братьев сестру». — Хорош молодец! учливо говоришь. Я седьмой десяток доживаю, а про эту красоту слыхом не слыхала. Впереди по дороге живет моя большая сестра, может — она знает; поезжай-ка завтра к ней, а теперь усни: утро вечера мудренее! Иван-царевич ночь переночевал, поутру встал раненько, умылся беленько, вывел коня, оседлал, в стремено ногу клал — только его и видела бабушка! Едет он далеким-далеко, высоким-высоко, день коротается, к ночи подвигается; стоит двор что город, изба что терем. Приехал ко крыльцу, привязал коня к серебреному кольцу, в сени да в избу, Богу помолился, ночевать попросился. Говорит старуха: «фу-фу! Доселева было русской коски видом не видать, слыхом не слыхать, а поне русская коска сама на двор приехала. Откуль, Иван-царевич, взялся?» — Что ты, старая сука, расфукалась, неучливо спрашиваешь? Ты бы прежде накормила-напоила, на постелю повалила, тожно бы вестей спрашивала. Она его за стол посадила, накормила-напоила, на постелю повалила; села в головы и спрашивает: «куды тя Бог понес?» — Был я, бабушка, в малых летах, качал меня батюшка в зыбке, сулил за меня Ненаглядную Красоту, трех мамок дочку, трех бабок внучку, девяти братьев сестру. «Хорош молодец! учливо говоришь. Я восьмой десяток доживаю, а про эту красоту еще не слыхивала. Впереди по дороге живет моя большая сестра, может — она знает; есть у ней на то ответчики: первые ответчики — зверь лесной, другие ответчики — птица воздушная, третьи ответчики — рыба и гад водяной; что ни есть на белом свете — все ей покоряется. Поезжай-ка завтра к ней, а теперь усни: утро вечера мудренее!» Иван-царевич ночь переночевал, встал раненько, умылся беленько, сел на коня — и был таков! Едет далеким-далеко, высоким-высоко, день коротается, к ночи подвигается; стоит двор что город, изба что терем. Приехал ко крыльцу, прицепил к золотому кольцу, в сени да в избу, Богу помолился, ночевать попросился. Закричала на него старуха: «ах ты, такой-сякой! Железнаго кольца недостоин, а к золотому коня привязал». — Хорошо, бабушка! Не бранись: коня можно отвязать, за иное кольцо привязать. «Что, доброй молодец, задала тебе страху! А ты не страшись, да на лавочку садись, а я стану спрашивать: из каких ты родов, из каких городов?» — Эх, бабушка! Ты бы прежде накормила-напоила, втепор вестей поспрошала; видишь — человек с дороги, весь день не ел! В тот час старуха стол поставила, принесла хлеба-соли, налила водки стакан, и принялась угощать Ивана-царевича. Он наелся-напился, на постелю повалился; старуха не спрашивает, он сам ей разсказывает: «был я в малых летах, качал меня батюшка в зыбке, сулил за меня Ненаглядную Красоту, трех мамок дочку, трех бабок внучку, девяти братьев сестру. Сделай милость, бабушка! Скажи: где живет Ненаглядная Красота и как до нея дойти?» — Я и сама, царевич, не ведаю; вот уж девятой десяток доживаю, а про красоту еще не слыхивала. Ну, да усни в Богом; заутро сберу моих ответчиков — может, из них кто знает. На другой день встала старуха раненько, умылась беленько, вышла с Иваном-царевичем на крылечко, и скричала богатырским голосом, сосвистала молодецким посвистом. Крикнула по морю: «рыбы и гад водяной! Идите сюда». Тотчас мине море всколыхалося, собирается рыба и большая и малая, собирается всякой гад, к берегу идет — воду укрывает. Спрашивает старуха: где живет Ненаглядная Красота, трех мамок дочка, трех бабок внучка, девяти братьев сестра? Отвечают все рыбы и гады в один голос: «видом не видали, слыхом не слыхали!» Крикнула старуха по земле: «собирайся зверь лесной!» Зверь бежит, землю укрывает, в один голос отвечает: «видом не видали, слыхом не слыхали!» Крикнула старуха по поднебесью: «собирайся, птица воздушная!» Птица летит, денной свет укрывает, в один голос отвечает: «Видом не видали, слыхом не слыхали!» — Больше некого спрашивать! говорит старуха, взяла Ивана-царевича за руку и повела в избу; только вошли туда, налетела Могол-птица, пала на землю — в окнах свету не стало. «Ах ты, птица-Могол! Где была, где летала, отчего запоздала?» — Ненаглядную Красоту к обедне сряжала. «Того мне и надоть! Сослужи мне службу верою-правдою: снеси туда Ивана-царевича». — Рада бы — сослужила, много пропитанья надоть! «Сколь много?» — Три сороковки говядины да щ(ч)ан воды. Иван-царевич налил щан воды, накупил быков, набил и наклал три сороковки говядины, уставил те бочки на птицу, побежал в кузницу и сковал себе копье длинное, железное. Воротился и стал со старухой прощаться: «прощай, говорит, бабушка! Корми моего добраго коня сыто — я тебе за все заплачу». Сел на Могол-птицу — в ту же минуту она поднялась и полетела. Летит, а сама безперечь оглядывается: как оглянется, Иван-царевич тотчас подает ей на копье говядины. Вот летела-летела не мало времени, царевич две бочки скормил, за третью принялся и говорит: «ой, птица Могол! Пади на сырую землю, мало пропитанья стало». — Что ты, Иван-царевич! Здесь леса дремучие, грязи вязучия — нам с тобой поконец века не выбраться. Иван-царевич всю говядину скормил и бочки спихал, а Могол-Птица летит, оборачивается. Что делать? думает царевич, вырезал из своих ног икры, дал птице; она проглотила, вылетела на луга зеленые, травы шелковыя, цветы лазоревыя, и пала на земь. Иван-царевич встал, идет по лугу — разминается, на обе ноги прихрамывает. «Что ты, царевич! Али хромаешь?» — Хромаю, Могол-птица! Давеча из ног своих икры вырезал да тебе скормил. Могол-птица выхаркнула икры, приложила к ногам Ивана-царевича, дунула-плюнула, икры приросли — и пошел царевич и крепко и бодро.