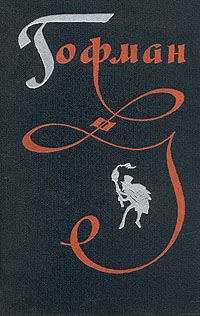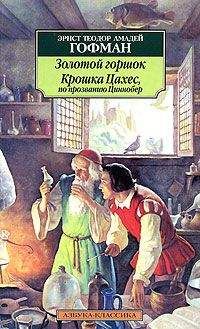― Они были от вас, от вас, я знаю, ― прервал его Джильо.
― А если б и на самом деле от меня? Какая разница? ― сказал Челионати. ― Довольно того, что вы нежданно-негаданно получили деньги, отчего встали опять на дружескую ногу со своим желудком, очутились в доме Бескапи, где вам пустили кровь ― полезная для вас и необходимая операция, ― и наконец провели ночь под одной крышей со своей возлюбленной!
― Что вы такое говорите? ― воскликнул Джильо. ― Под одной крышей с моей возлюбленной?
― Да, да, так оно и есть, ― ответил Челионати. ― Взгляните-ка наверх!
Джильо поднял глаза, и тысячи молний пронзили его сердце, когда он увидел на балконе милую Джачинту; изящно одетая, она была прекраснее и очаровательнее, чем когда-либо; позади нее стояла старая Беатриче.
― Моя Джачинта! Любовь моя! Моя отрада! ― горячо воскликнул Джильо. Но Джачинта только окинула его презрительным взглядом и ушла с балкона. Беатриче следовала за ней по пятам.
― У нее все еще продолжается эта проклятая сморфия, ― раздосадованно сказал Джильо. ― Но, вероятно, она скоро кончится.
― Не думаю, не думаю, ― проговорил Челионати. ― Ведь вы не знаете, мой добрый Джильо, что пока вы так смело домогались любви принцессы Брамбиллы, в вашу донну влюбился красивый, статный принц, и она, по-видимому...
― Дьяволы ада! ― вскричал Джильо, ― эта старая чертовка Беатриче свела с ним мою бедняжку! Но я отравлю крысиным ядом подлую старуху, а проклятому принцу всажу в сердце кинжал!
― Бросьте, мой добрый Джильо! Спокойно отправляйтесь домой и велите снова пустить себе кровь, если на вас нападут дурные мысли. Да сопутствует вам господь! На Корсо мы опять свидимся!
С этими словами Челионати помчался по улице.
Джильо, словно приросший к месту, бросал свирепые взгляды на балкон и, скрежеща зубами, бормотал ужаснейшие проклятия. Но когда маэстро Бескапи, высунувшись из окна, учтиво попросил его войти в дом, дабы переждать новый, видимо близкий, приступ болезни, Джильо, уверенный, что и маэстро в заговоре со старухой, бросил ему в лицо «проклятый сводник!» и как безумный кинулся прочь.
На Корсо он встретился с несколькими прежними товарищами по театру, и все они отправились в ближайший винный погребок, где Джильо надеялся избыть все свое горе, любовную тоску и отчаяние, растопив их в пламени огненного сиракузского.
Вообще-то такой способ не рекомендуется, ибо пламя это хоть и поглощает горе, зато, неукротимо вспыхивая, зажигает в душе то, что обычно следует держать подальше от огня; но с Джильо дело получилось как нельзя лучше. В занимательной, приятной беседе с товарищами-актерами, упиваясь всякого рода воспоминаниями о веселых эпизодах театральной жизни, он и вправду забыл о всех своих горестях. Прощаясь, друзья условились между собой сойтись вечером на Корсо, наряженные в самые нелепые костюмы, какие только можно было себе вообразить.
Костюм, в который Джильо уже облачился однажды, показался ему достаточно карикатурным; на этот раз он уже не пренебрег смешными, длинными, до пят, штанами. Вдобавок он вздел заднюю полу плаща на конец привязанной к спине палки, отчего казалось, будто у него из спины выросло знамя. В таком забавном виде он как бешеный носился по улице, веселясь от души и начисто забыв о своей мечте и об утраченной возлюбленной.
Вдруг его как приковало к месту: от дворца Пистойя навстречу ему шла высокая, стройная фигура в том же пышном одеянии, каким когда-то поразила его Джачинта; иными словами, он увидел перед собой свою мечту, претворенную в жизнь, в яркую действительность. Словно электрический удар пронизал все его существо. Он сам не понимал, как это случилось, но застенчивость и робкое любовное желание, которое обычно в присутствии внезапно появившейся возлюбленной парализуют ум и сердце мужчины, перешли в такую бесшабашную веселость и радость, каких Джильо никогда еще не испытывал. Выставив правую ногу, выпятив грудь и расправив плечи, он сразу встал в изящнейшую позу, в какой обычно читал свои самые трагические монологи, стащил с жесткого парика берет с длинными петушиными перьями и, пристально глядя сквозь громадные очки на принцессу Брамбиллу ― вне всякого сомнения, то была она, ― заговорил скрипучим голосом под стать своей маске:
― Прелестнейшая из фей, величавейшая из богинь спустилась на землю. Завистливая маска скрывает победную красоту ее лика. Но блеск, излучаемый ею, рождает тысячи молний, поражая сердца юношей и старцев, и все они, воспламененные любовным восторгом, славят Небесную!
― Из какой высокопарной пьесы, ― отозвалась принцесса, ― заимствовали вы эти прекрасные речи, господин капитан Панталоне или как вас там еще зовут-величают? Скажите лучше, о какой победе вещают трофеи, которые вы столь гордо носите на спине?
― Это не трофеи, ― ответил Джильо, ― ибо я только еще добиваюсь победы! Это знамя надежды, страстной любви, которому я присягнул, выкинутое в знак того, что я сдаюсь на волю победительницы! Своим шелестом оно взывает: смилостивься надо мной! О принцесса, сделайте меня своим рыцарем! И я стану сражаться, побеждать и носить трофеи во славу вашей красоты и прелести!
― Если вам угодно стать моим рыцарем, ― проговорила принцесса, ― то вооружитесь, как положено рыцарю! Наденьте на голову грозный шлем, возьмите в руки широкий, острый меч! Тогда я вам поверю!
― А если вы согласны стать моей дамой, ― заявил Джильо, ― Ринальдовой Армидой, то будьте ею всецело! Снимите роскошный наряд, который меня ослепляет, обольщает опасными чарами. Это яркое кровавое пятно...
― Вы с ума сошли! ― с живостью воскликнула принцесса и, покинув Джильо, быстро удалилась.
Джильо казалось, будто не он только что разговаривал с принцессой, не по своей воле высказал то, чего теперь сам совсем не понимал: в эту минуту он готов был поверить, что и синьор Паскуале и маэстро Бескапи справедливо сочли его немного тронувшимся. Но тут появилась целая компания ряженых в масках такого потрясающего безобразия, какое только могла измыслить самая изощренная человеческая фантазия. Джильо сразу узнал своих товарищей, и снова его охватила исступленная веселость. Он быстро вмешался в эту кривляющуюся, скачущую ораву, громко выкрикивая:
― Кипи, кипи, безумное веселье! Беснуйтесь, своевластные, проказливые духи дерзкой шутки! Я ваш всецело! Признайте же во мне своего!
Джильо показалось, будто среди его товарищей был и старик, из чьей винной бутылки возник образ принцессы Брамбиллы. Но не успел он вглядеться, как тот обхватил его, завертел по кругу, крича ему в самое ухо:
― Поймал тебя, братец, поймал! Теперь ты мой!
О белокурых головах, имеющих дерзость порой находить Пульчинеллу безвкусным и скучным. ― Немецкая и итальянская шутка. ― О том, как Челионати, сидя в «Caffe greco» [6], утверждал, будто находится сейчас не в «Caffe greco», а на берегу Ганга, где изготовляет парижское rape [7]. ― Чудесная история короля Офиоха, правившего страной Урдар-сад, и королевы Лирис. ― Как король Кофетуа женился на нищенке, а высокородная принцесса бегала за жалким комедиантом; Джильо же, нацепив деревянный меч, носился по Корсо за сотней масок, пока наконец не остановился, увидев, как танцует его двойник.
― Вы, белокурые! Вы, синеглазые! Вы, гордые молодые люди, от чьего «Добрый вечер, прелестное дитя!», произнесенного громовым голосом, шарахается в ужасе самая отчаянная девчонка, ― оттаять ли вашей крови, застывшей в вечном холоде зимних морозов, от порывистой трамонтаны или жаркой любовной песни? Что вы бахвалитесь своей жизнерадостностью, веселостью, если не чувствуете прелести самой шутливой, самой смешной из шуток, какие с такой полнотой и щедростью дарит вам наш благословенный карнавал? Ведь вы даже иногда осмеливаетесь находить нашего славного Пульчинеллу безвкусным и скучным, а забавнейших уродов, каких только создавала веселая насмешка, называете порождениями смятенного разума! ― Так разглагольствовал Челионати в «Caffe greco», куда он, по своему обыкновению, заглянул вечером на час-другой; он сидел за столиком этой кофейни, помещавшейся на улице Кондотти, с немецкими художниками, тоже ее завсегдатаями, которые сейчас вовсю критиковали карнавальные маски.
― Как вы можете так говорить, маэстро Челионати? ― сказал немецкий художник Франц Рейнгольд. ― Ваши слова плохо вяжутся с теми похвалами, что вы раньше расточали немецкому уму и характеру. Правда, вы всегда корили нас, немцев, за то, что мы требуем от шутки чего-то большего, чем голая шутка, и в этом я с вами согласен, хотя совсем в другом смысле, чем вы, может быть, полагаете. Боже вас сохрани думать, будто мы так глупы, что придаем иронии лишь чисто аллегорическое значение. Вы впали бы в большую ошибку. Мы прекрасно видим, что настоящей шутке, шутке как таковой, живется у вас, итальянцев, куда привольнее, чем у нас. Мне только хотелось бы возможно отчетливей объяснить вам, какова, по-моему, разница между вашей шуткой и нашей или, лучше сказать, между вашей иронией и нашей. Вот мы говорим о странных, причудливых фигурах, какие носятся сейчас по Корсо: здесь я по крайней мере могу сделать какое-то сравнение. Когда я вижу такого забавного малого, который своими отчаянными гримасами и телодвижениями вызывает в толпе безудержный смех, мне мнится, будто с ним говорит его прообраз, ставший для него зримым; но его языка он не понимает, и, как обычно в жизни, когда человек старается уловить смысл чуждых ему, непонятных слов, он подражает жестам этого прообраза, однако сильно их утрируя, потому что это дается ему не без труда. Наша шутка ― это язык того прообраза: она звучит у нас из глубины души, обусловливая жест в силу иронии, заложенной в ней; подобно тому как большой камень, лежащий на дне быстрого ручья, взбивает на поверхности воды курчавые барашки. Не подумайте, синьор Челионати, что я лишен чувства юмора и не воспринимаю смешного, не имеющего глубоких корней, питающегося только внешними мотивами, что я не отдаю должного вашему народу за исключительный дар схватывать и претворять в действие смешное. Но простите меня, Челионати, если я нахожу необходимым сдобрить это смешное, коль скоро мы его допускаем, некоторым добродушием, а его ваши комические персонажи, по-моему, полностью лишены. Добродушие, которое смягчает нашу шутку, тонет у вас в тех непристойностях, какие вносят в свои шутки Пульчинелла и сотни других масок, ему подобных; и тогда сквозь карикатурные рожи, буффонные дурачества, проглядывает страшная фурия ярости, ненависти, отчаяния, доводящая вас до безумия, до смертоубийства. И в тот день карнавала, когда каждый старается потушить у другого свечу, когда среди бешеного исступленного веселья и оглушительного хохота все Корсо потрясает дикий вопль «Ammazzato sia, chi non porta moccolo!» [8] поверьте мне, Челионати, что в то мгновение, как я, зараженный весельем толпы, громче остальных дую и кричу: «Ammazzato sia!» ― меня охватывает жуткий страх, при котором нет места моему немецкому добродушию.