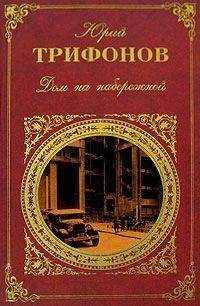Юрий Яковлевич ЯКОВЛЕВ
Ляля Пуля
Сперва небо качалось и его сносило то влево, то вправо. Потом оно рухнуло и придавило меня так, что стало трудно дышать. Оно было серым, пасмурным и кололо мне шею. От него пахло мокрым валенком. Когда наступило просветление, небо оказалось шинелью, которой санитары прикрыли меня от пронизывающего ветра.
Позднее небо поднялось, но было таким невысоким, что до него можно было дотянуться рукой. Только руку я не мог поднять. Под низким небом горел фонарь "летучая мышь", и я теперь уже не помню, чем тогда казался мне фонарь под пологом палатки медсанбата - луной или солнцем.
Сердце вдруг похолодело и стало сжиматься. Оно уменьшалось, словно вырвалось из груди и помчалось куда-то вдаль. Я вообще перестал чувствовать сердце. В глазах поплыл туман. Я жадно глотал воздух - пил его как воду.
И тут передо мной возникли два удивительно знакомых глаза. Они не мигая смотрели на меня в упор - холодные, светло-серые, почти бесцветные, словно радужка состояла из кристаллов льда. Я потянулся к ним, но остался неподвижен. Только губы дрогнули и с них сорвалось имя: Ляля Пуля.
И неожиданно запахло яблоками.
В нашем дворе всегда пахло яблоками. И летом, и осенью, и когда выпадал снег.
Свежий, бодрящий аромат встречал уже у ворот. И обыкновенный серый, мощенный булыжниками двор от этого запаха становился торжественным и таинственным. Яблочный дух вырывался из низких подвальных окон и возносился до пятого этажа. Яблоками в нашем дворе пахло все, даже ветер, закручивавший водоворотик пыли. Даже снег.
Дело в том, что в подвале нашего дома размещался склад "плодоовощ". Осенью двор становился тесным от подвод и грузовиков, привозивших свежую партию яблок. Мы, ребята, конечно, были первыми помощниками при разгрузке яблок. Мы сопровождали грузчиков, как чайки сопровождают судно в надежде поживиться отбросами камбуза.
Иногда из ящика, влитого в плечо грузчика, выскакивало яблоко и, прыгая по булыжникам, откатывалось в сторону. Это яблоко было нашей законной добычей. И никто не оспаривал нашего права. Если же - случалось такое счастье! - ящик падал и яблоки, как от взрыва, разлетались во все стороны, то тут наших прав на добычу не было, и начиналось пиратство. Грузчики собирали яблоки, а мы только ухитрялись урвать у них из-под рук, выхватить яблоко да еще успеть отбежать в зону безопасности. Это был самый настоящий бой между нами и "плодоовощью".
Случалось, мы просто воровали яблоки. Слово "воровали" не совсем подходило для этого случая, так как мы были убеждены, что не делаем ничего предосудительного, просто играем в азартную игру. Но "плодоовощ" называл вещи своими именами.
Временами мы люто враждовали с "плодоовощью". Но вот проходили осенние дожди, выпадал снег, ударяли морозы, и вражда затихала: нас приглашали перебирать яблоки. Перед нами распахивались недоступные двери "плодоовоща", и мы шли между рядами ящиков как по яблоневому саду. Мы работали усердно и, опьяненные ароматом, переносились в лето и уже не могли себе представить, что всего два лестничных пролета отделяют нас от зимы.
Должен признаться, что яблоки мы не очень-то любили. От них мы получали только острое удовольствие доставшейся с риском добычи. В жизни каждого мальчишки обязательно должна быть хоть одна запретная яблоня в чужом саду, к которой крадутся, преодолевая страх быть побитым, а затем торопливо, с оглядкой срывают крепкие, с остатками завязи зеленые яблоки, от которых сводит рот. Но откуда в центре большого города взяться яблоне! "Плодоовощ" и был нашей яблоней.
Мы были большими знатоками яблок. Антоновку безошибочно отличали от "аниса полосатого", а "пепин шафрановый" - от "апорта". Были нам знакомы и такие редкие сорта, как "ранет орлеанский", "кандиль синап" и "астраханское красное".
Когда же мы с гордостью приносили яблочные трофеи домой, нас прогоняли и велели вернуть законную добычу "плодоовощи". Как бы не так! Ни у одного из нас не поднималась рука на такой добродетельный поступок. И начиналась объедаловка. Яблоки трещали у нас на зубах, губы блестели от сока...
До сих пор запах яблок возвращает меня в детство.
Но этот рассказ не о яблоках, а о Ляле Пуле.
Ляля Пуля жил в бывшем каретном сарае.
У нас во дворе была вереница каретных сараев. Бабушка рассказывала, что в "мирное время", то есть до революции, в длинном одноэтажном здании с облупившейся желтой краской за высокими воротами с фигурными коваными петлями и в самом деле во времена оные стояли кареты, потом их сменили легкие лакированные коляски на тонких дрожащих рессорах, фаэтоны с поднимающимся верхом и приземистые сани с медвежьей полостью. Внутри на стенах каретных сараев висели дуги, подбитые войлоком хомуты, выездная сбруя с бляхами, похожая на кавказский ремешок. А несколько сараев были переделаны в конюшни - там стояли лошади. Потом все это куда-то делось, исчезло, отнесло временем. Остался один Орлик. И тяжелая телега на "дутиках" - резиновых шинах.
Орлик был ломовой лошадью, или, как его еще называли, битюгом. У него была сильная короткая шея с седой гривой. И тяжелые, утолщенные книзу ноги. Когда Орлик шел по двору, каждый его шаг, как удар молота, отзывался на булыжниках лязгом подков.
Утром мы просыпались от железных шагов коняги. Мы подходили к окну, и перед нашим взором представал огромный мускулистый конь, который легко вез за собой телегу и в такт шагам покачивал головой, словно поддакивал своим мыслям.
Мы кормили Орлика хлебом, присыпанным солью. И он не спеша, с достоинством теплыми замшевыми губами брал из наших рук угощение и принимался жевать, водя челюстями из стороны в сторону.
У него были желтые, стертые зубы. Говорили, что по этим зубам можно определить его возраст. Орлику было за двадцать лет...
Хозяином Орлика был отец Ляли Пули - ломовой извозчик, ломовик. Или, как иногда говорили в наше время, работник гужевого транспорта.
Ляля Пуля от рождения был немым. Сперва думали, что речь запаздывает и со временем мальчик заговорит. Но прошел год, второй, третий... Из уст мальчика вырывались только нечленораздельные звуки, похожие на мычание. Он все понимал, ему все хотелось выразить, но природа навсегда лишила его бесценного дара речи. Среди невнятных звуков и междометий, которые мальчику удавалось выдавить из себя, было два односложных созвучия "ля-ля" и "пу-ля". Мальчик тыкал себя пальцем в грудь и произносил свои два единственных слова - "ляля" и "пуля". В конце концов его так и стали называть - Ляля Пуля.
А его настоящее имя забылось.
Когда я вспоминаю Лялю Пулю, то почти физически ощущаю запах яблок. И передо мной возникает его угловатая, чуть сутулая фигура. И, как далекое эхо, доносятся голоса грузчиков:
- Эй, Ляля Пуля, попадешься - уши поотрываем!
Но никто не отрывал ему уши. То ли жалели его, то ли он был таким неуловимым.
У него были холодные бесцветные глаза, а когда он смотрел на нас, не в силах выразить словами свою мысль, во взгляде появлялось что-то загадочное, словно он умышленно молчал, скрывая свою тайну.
Он ходил, прижимаясь к стене, тихой кошачьей походкой. А от преследования уходил большими пружинистыми прыжками. У него были холодные руки и цепкие пальцы. Он был диковатым, и потому его считали злым. Но, наверное, трудно быть добрым, если весь окружающий мир не понимает тебя, насмехается, сторонится...
Ребята дразнили Лялю Пулю. И я не был исключением, - движимый какой-то злой радостью, я вместе со всеми бежал следом за ним и орал:
- Ляля Пуля! Ляля Пуля!
Как должно быть тяжело, когда тебя дразнят твоим же именем!
У Ляли Пули не было друзей - никто не понимал его, никто не хотел дружить с немым. Зато с малышами он быстро находил свой особый бессловесный язык. Играл с ними, возился. Он понимал их, они понимали его.
Из-за своей вынужденной замкнутости Ляля Пуля казался нам примитивным, недоразвитым. Нашего воображения не хватало, чтобы представить себе сложную и, как потом оказалось, прекрасную жизнь, которая скрывалась в нем и не находила выхода.
С годами в нем накопилось множество непроизнесенных слов, Слова распирали грудь. Мешали дышать. Ему было больно от этих слов. И на лице рано появились две страдальческие морщинки.
Отец Ляли Пули - ломовик, или работник гужевого транспорта, - не был немым. Но он от природы был мрачен и молчалив. Может быть, немота сына так резко повлияла на него? А у матери был звонкий голос, и он звучал оскорбительно громко в обществе немого и немногословного.
С родителями Ляля Пуля объяснялся жестами и мимикой, а нам казалось, что он не разговаривает, а кривляется.
Мы не понимали одиночества Ляли Пули, не замечали, как он втайне тянется к нам. Мы были в том жестоком возрасте, когда люди не чувствуют чужой боли и не откликаются на чужую беду. У некоторых из нас с годами эта жестокость прошла - мы переболели ею, как корью. А некоторые сохранили ее на всю жизнь.