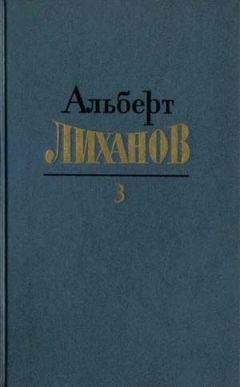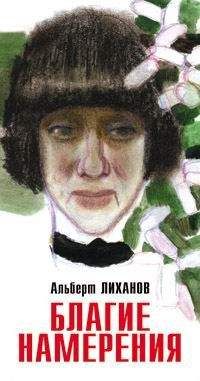Впрочем, фанерные ларьки скоро кончились, пошли павильончики, вроде пивных, куда надо входить и где товар продается по целевому назначению. Ярмарка получалась вроде маленького города в большом городе с такими же правилами, и Василий Лукич ободрился, потому как в павильончиках, где торговали вещами целевого назначения - пальто так пальто, ботинки так ботинки, - и можно лишь было сыскать надобное быстро, без хлопот и дальних городских перегонов.
Особых покупок Василий Лукич делать не собирался, все, что необходимо поперед всего - соль там, или сахар, или всевозможные крупы, - Ксеша брала в сельпо, не голодные ныне годы, продукты его не интересовали. Хотелось взять шапку для себя - зимнюю, желательно меховую, так как брать пушнину, хотя бы и на такое малое удовольствие, как шапка, Василий Лукич никогда не решался. Да и как можно об этом думать, раз белку в его кварталах, как и во многих других, из-за недорода шишки вот уже несколько сезонов брать запрещено! Другой бы лесовик смастерил, ничего, нашел бы обход, но Василий Лукич давно наметил затратить в городе лишнюю двадцатку. Старая шапка, прямо сказать, поистрепалась, да еще и подрал ее на утиных радостях докторов лягаш.
Однако шапка была малым делом, главное ж Василий Лукич затеял посерьезнее, с таинкой. Хотел он приглядеть что-нибудь Ксеше к одному необыкновенному дню.
Ксеша, понятно, удивится подарку, потому что ведь этот день праздничный не для нее - для него: пятьдесят лет стукнет на ледостав пятьдесят, подумать он мог ли! - и подарки полагаются по правилам имениннику. Но нет, Василий Лукич задумал в этот день подарить что-то памятное именно ей, Ксеше, и вынашивал это свое намерение с особым смыслом, непонятным, может, чужим людям, но Ксеша это, конечно, поймет.
Василий Лукич представлял себе, как взглянет на него жена, как затуманятся ее глаза, но она сдержится, не заплачет, посмотрит на него долго, молчаливо, охватит его как бы своим взглядом. В мгновение, разглядывая друг дружку, они опять проживут их долгие годы, и, вглядевшись в Ксешины глаза, Василий Лукич почувствует, как ему опять полегчает, как тогда, в госпитале, и опять можно будет жить дальше, закрыв заслон в прошлое, как в глубокую и всегда жаркую печку.
Да, пятьдесят лет брякнет на ледостав, полтинник, как, усмехаясь, сказал доктор Морозов, которого Василий Лукич на такую дату пригласил еще летом, и из этих пятидесяти, из этого полтинника, двадцать семь, перед тем как уснуть в просторной их кровати, гладит Василий Лукич Ксешу шершавой ладонью по темным, теперь-то уже с сединой, но все еще густым волосам.
Двадцать семь из пятидесяти. Бывает, живут люди и дольше, и счастливо живут, ничего не скажешь, бывает, и меньше, но так, как живут они, Василий и Ксеша, наверно, никто не живет, потому что жизнь у них наособицу, не в подобие, но и не в пример.
Попервости, признаться, Василий Лукич, Васька тогда, не верил в удачу, думал, что все это по Ксешиной жалости к нему, - была, конечно, и жалость, но не то в первенстве. Жалость, она у Ксеши в душе, Василий Лукич знает, что и теперь Ксеша его жалеет, особливо после дальних обходов, когда на Муравом живого места от оводов да слепней нет и Василий Лукич ведет коня за повод, сбивая в кровь култышку, но то особый разговор. Просто, видно уж, то ли по божьей милости, если он есть, то ли по закону справедливости - такой закон обязательно есть! - выпала Василию тогда такая удача, такая звезда после всех тягостей, доставшихся ему. Встретил он Ксешу, вернее, она встретила его, потому что сам он, Васька, был тогда невменяем, отогрела его и сняла с него половину горькой тяжести.
Соседи по палате посмеивались, один старче даже вразумлял: мол, не надейся, мол, она сердешная только до выписки, чтоб ободрить тебя, это в их медицинские обязанности входит. Но нет, вышло - не до выписки.
Вместе они из госпиталя вышли: Василий полным инвалидом, Ксеша - по собственному желанию, и уехали, как сговорились, в район и даже за район, в деревню, сняв комнату на околице и твердо решив по окончательном выздоровлении определиться Василию в лесничество, а потом съехать и из деревни.
Так оно и вышло.
В сорок шестом, призвав на помощь демобилизованных мужиков и попросив поддержки начальства, Василий Лукич срубил дом, выбрав место высокое, на холмине, прямо под сосновым бором.
Вид сверху открывался вольный, широкий. Ближняя деревня, где снимали они комнату, была в километре отсюда, воздух в вышине оказался прозрачный, особенно в осень, когда тихо и уже подбивает траву морозец. По утрам, вставая с солнцем, Василий Лукич и Ксеша, молча, не сговариваясь, подходили к ограде, оглядывали даль и пили, пили хрустальный до звонкости воздух, как будто хмельную бражку.
Румянец озарял Ксешину щеку, Василий Лукич искоса, осторожно поглядывал на этот румянец, вспоминал, как мечтали они про такие минуты в душном, пропитанном лекарствами темном госпитальном уголке под лестницей возле вешалки, глотал свежесть и радовался, что вышло по-ихнему.
И он и Ксеша немало хватили горя в той, уже почти забытой войне, и, полюбив друг друга в госпитале, - не пылко, не по-мальчишечьи полюбив, а как-то очень в глубину, даже чуть по-стариковски, что ли, - так вот, полюбив друг друга, они решили жить лишь друг для друга. Их мысль, их цель состояла в том, чтобы воспротивиться самой своей жизнью войне. Война убивала, калечила, жгла, разъединяла людей, вымарывала даже из памяти близких их лица и имена, и они прошли эту войну.
Ксеша была в оккупации. В сорок третьем ее отправили в Германию, и она бежала из колонны, когда их вели на станцию, по Ксеше стреляли, пуля вспорола ватник у плеча, но не задела, и ей удалось уйти. Домой возвращаться было бесполезно, она пошла на восток и добралась до своих, лишь случайно не погибнув.
Там, в госпитале, когда еще шла война, но для Василия и Ксеши она уже кончилась, Василий Лукич, холодея, думал о простой такой истине - ведь они могли и не встретиться. Могли и не встретиться - чуть правее пройди пуля, когда стреляли по Ксеше, или наступи он на ту мину чуть иначе... Но они встретились все-таки, оба оглушенные войной, оба потерявшие всю родню начисто, до единого человека...
Возвращаясь из плена, уже в потемках, Ксеша набрела на какой-то земляной холм и услышала глухие стоны. Руками, разбивая в кровь ногти, она стала раскапывать землю, не успела, стоны затихли, Ксеша откопала лишь руку, лишь скрюченную человеческую кисть.
Молча, обезумев от ужаса, Ксеша побежала прочь от теплой могилы, наконец упала без памяти, а когда очнулась, увидела красноармейцев.
Могилу откопали, Ксеша не теряла больше сознания, но словно окаменела, и как добралась до места назначения, до этого сибирского госпиталя, так и не помнила.
Про Василия же Лукича и говорить нечего. После того случая, который произошел с ним, он замер, как бы притаился, и из этого бесконечного сна, из этого существования сумела вывести его только Ксеша.
Это были не слова и не пустая прихоть. Мысль, которая лежала в основе их встречи и их любви, мысль, которая соединила их и придала их чувству не быстротечную страсть, но силу глубинного потока, была настолько выстрадана каждым из них, что не могло и подуматься, будто можно как-то иначе.
Они сказали тогда друг другу, что, если уж так повезло и им суждено было выйти из этого огненного пекла живыми, остальную жизнь надо прожить хорошо. Они не были испорченными людьми и поэтому решили, что прожить хорошо означает не деньги, не имущество - что значило имущество перед войной? - а любовь, только любовь.
Многое из этого они вовсе и не говорили друг другу, да и не сумели бы сказать по своей простоте и неумению складывать словесные обозначения, но думали, нутром чувствовали и решили, что дольше проживут вдалеке от хлопот, от всяких сует, построили, как хотели, прочный смолистый дом на вершине холма, под макушками сосен.
По ночам сосны роняли на крышу шишки, они ударялись глухо, коротко скатывались к желобам, и Василий Лукич, гладя заскорузлой ладонью жену, не раз задумывал, что бы сделать такое для Ксеши, для единственного и дорогого человека, всю жизнь подчинившего ему, как бы ответить ей на ее любовь, доверчивость и понимание - не любовью, этим он отвечал взахлеб, благодарно, - а памятью, так, чтоб осталось на память после него. Все-таки как ни крути, а полтинник...
Гладя Ксешины волосы, Василий Лукич думал, что планы их удались, что жизнь они прожили очень славно, что после ран и болей в молодости тишина к зрелости исцелила их, что жизнь их правильная и что дочь Аннушка вышла по ним, по родителям, не суетная, ровная и тоже сумеет хорошо полюбить и узнать, что такое любовь, дай ей только бог повстречать суженого, как и они с Ксешей, чтобы души совпали и намерения да чтоб еще техникум закончила благополучно.
Удивительно, в такие годы, как у Василия Лукича, когда дело подбирается к полтиннику, дети и пожилые хлопоты занимают у людей всю жизнь, отодвигая личное в сторону, как хоть и дорогой, но ныне ненужный хлам. У Василия Лукича хлама никакого не было, он частенько задумывался над этим, часто проверял себя, не врет ли в душе, но всегда отпускал эту мысль со спокойствием.