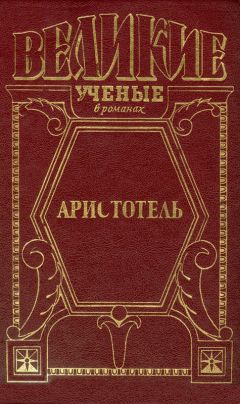— И я думаю, что люди не стоят пылкой любви философов, — продолжал Платон, — потому что пылкая любовь бывает от восхищения. В жизни людей мало восхитительного. Но в каждом человеке есть то, что достойно нашей заботы, — его душа. И в каждом обществе есть то, что достойно деятельной любви философов, — его лучшая, мыслящая часть. А так как никто, кроме философов, не думает возвышать душу человека и не знает, как наилучшим образом должно быть устроено общество, то вот, стало быть, почему нельзя принять слова Тимона. Философы должны улучшать мир. И так как истина открывается не сразу, а постепенно, и так как лучшие из истин могут быть открыты в будущем, то, значит, и будущее людей обещает быть лучшим, чем прошлое. Тысячу раз жизнь каждого из нас может убедить в обратном, но никогда она не поколеблет наших убеждений, пока мы будем ударами судьбы противопоставлять единственное, что вечно, незыблемо и прекрасно, — истину. Вот чего я тебе желаю, Гермий, — сказал Платон и передал килик Эвдоксу.
Аристотель ловил каждое слово Платона и примерял его к своим мыслям, желаниям, к тому, что можно было назвать еще только предчувствием мысли или желания. И делал он это не только теперь, на пиру, но и всякий раз, когда слушал Платона. Слушал же он его почти каждый день с той поры, как Платон возвратился из Сиракуз. И даже по два раза на день — утром, когда Платон вел беседы со своими друзьями и учениками, и вечером, когда послушать Платона приходили многие из Афин. И вот что еще делал Аристотель — он читал диалоги Платона, которые брал в хранилище рукописей. Это было самое богатое из всех хранилищ, какие он когда-либо видел. В нем были сочинения не только Платона, но и многих других философов, софистов, риторов, ораторов, геометров, астрономов, физиков, живших в других краях и в другое время. И если первым удовольствием для Аристотеля были беседы Платона, то вторым — занятия в хранилище рукописей. Он так усердно предавался им, что, случалось, забывал о пище и сне, благо дверь в хранилище никогда не закрывалась ни днем ни ночью. Главный хранитель рукописей Фрасибу́л вскоре обратил внимание на прилежного ученика и всякий раз, когда тот забывал о пище, напоминал ему, что наступило время второго завтрака или обеда[34]. О приближении первого завтрака напоминала всем своими звучными флейтами клепсидра Платона. Ее гармонический аккорд был ласков и настойчив, как зов друга.
Восторг — любовь, когда все в любимом предмете возбуждает душевный трепет. Обуянный восторгом ни с чем не сравнивает того, кому поклоняется в своей любви, потому что ничего, кроме своей любви, не видит. Он и себя теряет в этом восторге, и так как ничто, кроме предмета любви, для него не существует, то и сама мысль о сравнении лишена смысла.
И вот то чувство, которое возбуждал в Аристотеле Платон, было чувством восторга. Вся душа Аристотеля была заполнена мыслями о нем. Во всем, что окружало его, он обнаруживал его присутствие: в чистоте струй неторопливого Кефиса — чистоту помыслов Учителя; в прохладе, которая клубилась голубым светом под платанами, — возвышающую и ублажающую душу мысль Учителя; в солнечном свете, струящемся сквозь высокие кроны, — летящую к запредельным высям мечту. Он обнимал деревья, мимо которых проходил Платон, гладил ладонью траву, примятую его ногой, целовал листья, касавшиеся его головы.
Он был преисполнен восторга и не прислушивался ни к себе, ни к другим, потому что голос Учителя постоянно звучал в его ушах. И даже, читая слова, написанные им, он слышал их так, словно их произносил Учитель.
И только недавно — Аристотель не сразу обнаружил это — он различил в своей душе себя и его, отделил себя от него и сравнил собственную мысль с его мыслью. И хотя в этом сравнении победил Платон — иначе и быть не могло, — Аристотель обнаружил, что его собственная мысль не исчезла, не пропала, не ушла, а лишь остановилась и оглянулась, ища поддержки у тех, что следовали за ней. Счастье доставляли те сравнения, где его мысли и мысли Платона совпадали. Ни с чем не сравнимое блаженство испытывал он, когда мудрость Платона, словно из небытия, из хаоса и мрака, вызывала к жизни чистые и стройные мысли, принадлежавшие его, Аристотеля, душе и устремлявшиеся, словно дети к матери, к мудрости Учителя.
Это блаженство он испытал и теперь, когда Платон сказал, что призвание и вечная забота философов — улучшать мир. Эта мысль не была ни новой, ни неожиданной. И тот, кто хоть немного знал о жизни. Платона, не мог не вывести эту мысль, обдумывая его поступки: ведь это он, Платон, дважды ездил в Сиракузы, пытаясь наставить на путь истины тиранов. Он произносил перед своими слушателями речи в защиту мудрости, нравственности и законов. С его мыслями соизмеряют справедливость своих поступков многие из тел, кто нынче стоит у власти в Афинах и в других полисах Эллады. И все же… И все же мудрость — обитель чистого созерцания, размышления, находящего пользу в самом размышлении. Из всех наук наиболее полезна эта — наука о мудрости, о причинах и началах. И никто так не далек от практической жизни людей, как философ. И стало быть, зная о том, что такое философия, можно подумать, что истинный философ — человек, далекий от борьбы мнений и страстей, парящий в эмпиреях[35]. Но можно ли подумать так, зная о том, кто такой Платон?
Перед тем как покинуть Академию, Гермий пробыл несколько часов наедине с Платоном. Платон проводил Гермия до ворот. Дальше с ним пошли Ксенократ, Спевсипп, Аристотель и еще несколько человек. Платон остался стоять у ворот и стоял там до тех пор, пока Гермий и его друзья не скрылись за деревьями.
Солнце перевалило уже за полдень, когда они вышли на дорогу, ведущую в Пирей. Тащившаяся следом за ними в сопровождении рабов коляска с дорожным скарбом Гермия громыхала колесами на камнях. Гермий был неразговорчив и на вопросы друзей, отчего молчит, отвечал, что обдумывает недавнюю беседу с Платоном.
— Впрочем, — признался он позже, — не столько то обдумываю, что сказал мне Платон, сколько то, что сказал ему в ответ я. И вот мне кажется, что своими ответными словами я обидел Учителя. Он не нашел в моих словах истины и расстался со мною холодно — вы видели это.
— Не так уж необычно, — сказал Ксенократ, — что Учитель находит истину только там, где ему хочется. А хочется ему, как правило, видеть истину принадлежащей его мыслям, а не мыслям других.
— Стыдись, Ксенократ, — остановил его Спевсипп. — И вот Аристотель, который еще ни разу не слышал, чтобы мы вступали в спор с Платоном. Что подумает он о нас? Не покажется ли ему, что мы не возражаем Учителю только из почтения к его летам, а не из признания его превосходства в мудрости? А вот теперь, когда Учителя нет рядом, мы говорим против него…
— Меня мало волнует, что подумает сейчас о нас Аристотель. Меня больше волнует то, что он подумает о нас позже, когда и сам обнаружит в мыслях Платона бреши и несоответствия. Он подумает тогда, что мы, молчавшие, либо глупцы, либо притворщики. И значит, что мы — не философы. Верно, Аристотель? — обратился к шедшему рядом с ним Аристотелю Ксенократ.
— Для меня каждое слово Учителя священно, — ответил Аристотель, которого слова Ксенократа немало возмутили. — И лучше заблуждаться вместе с Платоном, чем осуждать его вместе с Ксенократом.
— Да вы поглядите на этого восторженного эфеба! — захохотал Ксенократ. — Готов поспорить с кем угодно и на что угодно, что не пройдет и года, как этот преданный ученик станет исправлять Учителя.
— Откуда такая уверенность? — спросил Аристотель.
— Да все оттуда же: если ты подумал сейчас, что ты лучше нас, потому что больше нас любишь Платона, то с той же необходимостью ты можешь подумать, что ты лучше Платона, потому что больше него любишь истину. Ты будешь расти, мой юный друг, — похлопал Ксенократ по плечу нахмурившегося Аристотеля. — Ты будешь расти! В этом мире все так устроено: кто поднял ногу, тот должен ее опустить, если он не истукан и хочет сдвинуться с места…
Никто с Ксенократом спорить больше не стал. Промолчал и Аристотель, поняв, что сейчас нужно говорить не о нем, а о Гермии, с которым все они теперь расстаются.
Больно предаваться печали о безвозвратном. Но расставание с другом — не всегда расставание навеки. А тут еще все поклялись, что непременно станут навещать друг друга. И Аристотель сказал Гермию, едва они вышли на пирейскую дорогу, что обязательно побывает в Атарнее, когда представится к тому случай. Гермий же уверял друзей, что не раз побывает в Академии и что в честь этих встреч они славно попируют. Никто тогда не знал, много ли правды в их словах, но все верили, что будущие встречи в их власти.
— Что же ты сказал Учителю? — снова спросил у Гермия Ксенократ, когда они прошли часть пути, болтая о пустяках. — И нам следовало бы знать, чем ты, как тебе кажется, огорчил его.